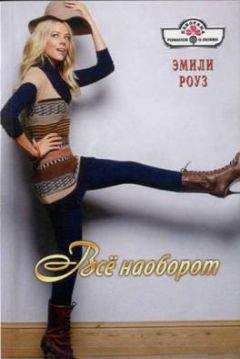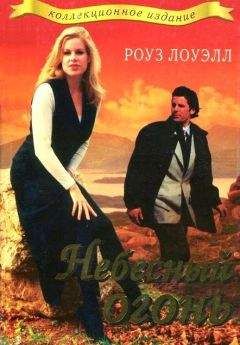Пиримкул Кадыров - Бабур (Звездные ночи)
Иногда Бабур расспрашивал Тахира о подробностях событий, вместе пережитых, или тех мест, которые они когда-то исходили. Тахир знал, что Бабур постоянно пишет книгу о своей жизни. И ощущал себя невольным участником ее создания, радовался, что не без толку проходят дни, проводимые им у повелителя в „приюте уединения“.
Как-то в полночь Бабур вышел к нему и прочитал грустным голосом:
От родины вдали мне пребывать доколе?
Здесь нет покоя мне, зато довольно боли.
По воле собственной я в этот край пришел,
Покинуть не могу его по доброй воле.
Эти строки так разбередили Тахира, что он чуть не застонал.
Помолчали. Каждый подумал о своем. О женах своих: Бабур больше всего о Мохим-бегим, Тахир — о Робии.
— Когда же мы свидимся с ними, хазрат мой? Прошло уж девять месяцев, как мы одни здесь, в Агре.
— Дороги все еще опасны. Тем более для женщин. Да и не до семейных утех сейчас, Тахирбек. Рано Санграм Сингх собирается воевать…
— Но он же заключил с вами соглашение против Ибрагима, когда мы были в Кабуле.
— Этот раджпут хотел с нашей помощью взять себе Дели и Агру. Он отважен, что и говорить. Но он еще и хитер, — думал, что мы повоюем с Ибрагимом и уйдем восвояси. А ныне увидел, что мы остаемся, новые строительства затеваем. Потому стал собирать силы против нас. Из своего Читура захватил многие области. „Моголами“ нас обзывает, а ведь знает он, что мы — тюрки. Рано Санграм собирает вокруг себя всех недовольных нами.
— Да, мой хазрат, и здесь недовольных тоже много… Есть и поводы для недовольства.
Сказав так, Тахир хотел напомнить Бабуру о том, что произошло недавно здесь, в крепости Агра.
Сзади дворца расстилался огромный, вплоть до крепостной стены, пустырь. Бабур приказал построить в центре его ваин — так индусы называют крытый бассейн с низвергающимися каскадами. Ваин надо было вырыть очень глубоким, на три яруса вглубь, с колодцами трех уровней, — таким его задумал тебризец Сулейман Руми, который приехал в Агру. Со дна этого огромного хауза должна была вести вверх ступенчатая лестница. Словом, работы было очень много, а Бабур приказал завершить ее всю за полгода. Тут начался сезон дождей. Мастера-индийцы сказали, что в пашкал[211] рыть землю нельзя. Их не послушали, заставили продолжать работу. И вот три дня назад одна сторона хауза обвалилась; задавило четырех землекопов, находившихся на самом дне. Когда их откопали, увидели, — трое уже были мертвы. Четвертый, с переломанным позвоночником, стал калекой на всю жизнь. Мастера-индийцы потребовали наказать саркора — того начальника, который заставил работать, виновника происшедшего несчастья. Но визирь Мухаммад-ага Дулдай прогнал их да еще и обвинил в том, что они сами якобы не соблюдали меры предосторожности. После этого трое мастеров-индийцев бежали из дворца Бабура, — видно, ушли к Рано Санграму.
Тахир видел трупы погибших под обвалом. Руки их цветом своим напоминали Тахиру руки лекаря Байджу.
Всем телом повернулся Тахир к Бабуру, спросил:
— Повелитель, знаете ли вы о том, как произошел обвал ваина?
— Да, мне рассказывал о том Мухаммад Дулдай.
— Все говорят, что несчастье произошло по вине саркора…
— Надо быть поосторожней самим землекопам. Я приказал, чтоб впредь обязательно укрепляли стены колодцев деревянными щитами и подпорками. Тогда работать будет совсем не опасно.
— А мастера, говорят, сбежали.
— Я назначил нового саркора, нанял других мастеров. Мало ли в Агре строителей?
Значит, работа будет продолжаться, не останавливаясь. И опять возможен обвал. И новые жертвы.
Недавно стихи Бабура вызвали в душе Тахира, помимо всего прочего, прилив любви к человеку, их написавшему. А сейчас — будто отлив произошел, холодным ветром отчуждения потянуло. Как это могут уживаться в сердце одного и того же человека горячее чувство тоски по близким, по родине и черствость к чужому горю? И этого человека давно любил и продолжал любить он, Тахир! Жара и холод… добро и зло… сила и красота — как тут разобраться в переплетении, в круговерти их.
Тахиру было больно.
5Повар Бахлул — он готовил еду в дворцовой кухне для шахского стола — также видел землекопов, погребенных обвалом, и в сердце его еще ярче разгорелось пламя мести за двадцатилетнего брата, павшего от сабли врага в сражении при Панипате, за погибших землекопов, за обиду султанши Байды — за все, что принесли с собой завоеватели.
Ахмед через связную — рабыню венценосной Байды — доставил повару Бахлулу яд. Другая рабыня, которой тоже удалось посетить бабуровский дворец, передала приказ султанши поторопиться: пройдет сезон дождей — и Бабур уйдет в поход, на Рано Санграма.
Яда было мало, всего две щепотки, в белой, сложенной вчетверо бумажке — будто редкая пряность лежало там это грозное оружие, с помощью которого Бахлул желал не только отомстить за гибель брата, но и вообще прогнать чужаков-завоевателей из родной страны. Ахмед убедил Бахлула: коли Бабура умертвить, остальные завоеватели оставят Индию, а на трон воссядет сын Ибрагима Лоди.
У Бабура были свои бакавулы, которым вменялось в обязанность тщательно проверять пищу, что идет на стол шаху. В тот вечер долго шел сильный дождь, и под его шум бакавулы крепко выпили и опьянели… В казане булькала уже готовая кайла[212], приправленная кисло-сладкой подливкой из плодов индийского растения карунды. Бахлул знал, что Бабур любит это индийское кушанье. Он незаметно вытащил из-за пазухи бумажный кулечек, огляделся — в кухне никого не было, — подошел к двери в соседнее помещение, где пьяные бакавулы горланили песни.
Можно было действовать!
Бахлул высыпал ядовитый порошок не в котел — бакавулы имели привычку брать на закуску к водке еду из котла, — а на тонкую лепешку, которую положил на большое фарфоровое блюдо. Внезапно сильный ветер резко хлопнул наружной дверью, и остатки порошка Бахлул в испуге бросил второпях в огонь под казаном. Снова огляделся. Успокоился. Уверенными движениями положил поверх лепешки кайлу, полил ее растопленным маслом.
Вскоре в кухню пришел слуга, взял фарфоровое блюдо и унес в зал, где ужинал Бабур. Прихватил он и тарелку тонко нарезанной жареной моркови.
Ахмед уверял, что яд этот нельзя определить на вкус и что действует он медленно, постепенно. Бахлул надеялся поэтому, что успеет скрыться прежде, чем во дворце поднимется шум. Но случилось непредвиденное: в дверях из столовой дорогу ему преградил один из пьяных поваров-пробовальщиков.
— Ну, а нам зайчатинки оставил? — пошатываясь, спросил он.
— Есть мясная лапша, сахиб.
— Нет, мы хотим зайчатины!
— Но жареной зайчатины было мало, всю кайлу отнесли великому шаху.
— Нет, я говорю: ее было много! Почему нам не оставил? А? — ревел пьяный здоровяк бакавул.
— Я же не всю зажарил…
— Вот и зажарь нам заячьего мяса! Быстро!
Бахлул вернулся к огню, в смятении начал хлопотать у котла: снова растопил масла, нарезал небольшими кусками зайчатину…
Ночь окутала дворец, темная, ветреная. По-прежнему хлестал дождь.
И вдруг забегали нукеры-охранники, громко выкрикивал кто-то: „Лекаря! Лекаря!“ Бестолково засуетились, толкая друг друга, бакавулы. Шум нарастал, и у дверей в столовую собралась толпа. Тахир опрометью промчался из отдаленного „приюта уединения“, вбежал в столовую.
Бабура рвало. Лицо его посинело. Он задыхался, метнулся было к дверям выйти наружу, но не сделал и двух шагов, зашатался. Подскочил Тахир, поддержал.
Появился лекарь Юсуфи.
— Расстелите курпачи на айване! — приказал он слугам.
— Нет… Во дворе! — прохрипел Бабур, и снова приступ рвоты согнул его пополам.
— Повелитель, на дворе дождь! Лучше на айване!
Поддерживаемого под мышки, Бабура вывели на веранду, уложили на курпачу. Лекарь дал ему понюхать лекарство, „укрепляющее сердце“, когда „человек много вина выпьет“.
— Я не пил вина… Причина в еде! — сказал Бабур, встал и снова нагнулся над фарфоровым тазом, успев выкрикнуть: — Повара! Схватить!
В меньшей мере, чем Бабура, но и двоих его сотрапезников, отведавших той же кайлы, стало рвать.
Бахлула схватили не нукеры, а сами повара — пробовальщики пищи. Палачи быстро принудили его признаться во всем. Немедленно были посланы нукеры схватить Ахмеда, венценосную Байду, ее рабыню и служанок.
Бабур всю ночь находился в таком состоянии, что окружающие при каждом приступе рвоты, во время лихорадочной ломоты ждали смертельного исхода. Только один Юсуфи, лекарь, делал ему промывания желудка, пичкал разными лекарствами и без конца уверял при этом: „Все пройдет! Вылечим вас, повелитель“.
Мир, казалось, ломался на какие-то смутные части. И с ним — будто сердце, и легкие, и желудок рвались наружу. В глазах — какие-то разноцветные пятна. И сквозь них ему виделись то Хумаюн, то Байда, то кроткая Мохим-бегим.