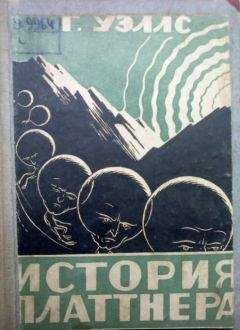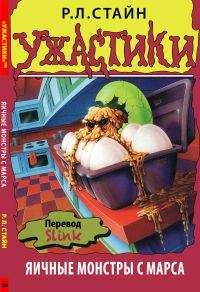Анатолий Знаменский - Красные дни. Роман-хроника в двух книгах. Книга вторая
— О том и думаю теперь, — сказал Миронов убежденно. — Думаю, что надо скорее кончать ату войну. Слишком затянулась она, всему нашему народу на погибель! Мало, что враги вершат свое дело, но беда еще и та, что в этой кровавой круговерти и шумихе человек человека не докричится, а это опасно вдвойне! В мирном обиходе оно все виднее станет, определеннее! И Ковалева, покойника, часто вспоминаю: надо Ильича поддержать, а то вновь могут завертеть дело, как на брестском вопросе...
Проговорили допоздна, и чуть свет пришлось скакать обратно, в штаб армии. Во 2-ю Конную приехал председатель ЦИК Украины Григорий Иванович Петровский.
...После спектакля в бывшей школе (Харьковский пролеткульт поставил «Разбойников» Шиллера) Григорий Иванович выступал перед бойцами. Бывший думский депутат, политкаторжанин и опытный пропагандист Петровский умел увлечь красноармейцев не митинговыми звучными, но уже прискучившими словесными оборотами, а брал за живое самой болью и надеждой нынешнего дня. Политработники армии Макошин и Полуян слушали Петровского с той же самозабвенностью, как и рядовые бойцы, потому что говорил честный, думающий человек, знающий жизнь и все ее нужды.
Скамьи и стол для президиума вынесли из помещения в сад, бойцы расселись прямо на траве, сбились то плотными кучками, то просторно, в темноте не было лиц, только помигивали огоньки самокруток. И лишь над столом утлые огоньки ламп освещали напряженные, хмурые лбы тех, кто сидел в президиуме.
— У вас тут трудно, товарищи, большие потери, страдания, головы свои кладете, это все так! — говорил Петровский ровным голосом, без надрыва. — Но послушайте, что там в тылу, у рабочих, которые рвутся из сил, чтобы дать вам сюда оружие, снаряды, амуницию... День и ночь без хлеба работают они, чахнут в нужде, в холоде, в лишениях до того, что иногда прямо у станка надают от слабости. На Брянском заводе, при наступлении Деникина, рабочие — голодные, без пайков, не отрывались от станков и машин, действительно падали от голодных обмороков! Их выносили на носилках, и случалось, что умирали после в амбулатории... Зато к вам шли отремонтированные бронепоезда, громили Деникина, облегчали вашу задачу. Вот такая нынче жизнь в тылу, и рабочие ждут, что скоро вы прикончите с врагами революции и трудового народа, вернетесь к труду и общими силами начнем душить голод и разруху! Так что же, товарищи, им сказать от вас — сломите вы хребет Врангелю?
На земле уже никто не сидел, не лежал, цигарки угасли, их втаптывали в землю.
Реванули так, что поздние листья на яблонях затрепетали и отдалось эхо у церкви и ближнего лесочка, за селом:
— Сло-о-омим! Пора кончать эту беду, товарищ! Передайте там нашим! Мы тоже тут не навечно, пора и по домам!
— Там, в России, жены, матери, дети, сестры и братья ждут! — в лад выкрикам сказал Петровский, и все заметили, как сорвался и сел от волнения его басовитый голос. — Исстрадалась голодная, холодная Россия на пороге величайшего счастья новой жизни...
Белый носовой платок отчетливо мелькнул в руках председателя Всеукраинского ЦИК, а потом он снял очки, и все увидели, что глаза у него мокрые.
Кто-то крякнул в темноте, сдерживая боль души, кто-то шепотом заматерился. Серафимович отошел за дерево, растроганно сморкался. Во тьме рявкнул надтреснутый волнением угрюмый бас:
— Там ишо якысь Фунт Стерлингаф прэ! О гады! Усех теперя зметем! И танки ихни, еропланы подлючьи!..
Когда проводили Григория Ивановича к отведенной квартире, распрощались до утра с Макошиным и Полуяном, Миронов и Серафимович постояли еще вдвоем у крыльца штаба, послушали тишину, глубокую ночь сентября с темным шатром неба, близкими шорохами сада, падучими звездами над украинской землей. Миронов был задумчив, с особой чуткостью вслушивался в далекие всплески у моста, как будто ждал ночного нападения махновцев. Либо ощущал просто движение вечности над головою, над поселком Апостолово, над всем этим дорогим ему, смертным и вечным миром. Но посты не поднимали тревоги, было тихо.
Сказал, положив руку на поручень крыльца:
— Теперь и поводу их... на самого дьявола, этих ребят. И они ему череп сломят, будь он хоть о семи головах!
Достал носовом платок и вытер в темноте глаза.
6
Командующим Донским корпусом своей армии барон Врангель назначил старого казачьего штабиста и сухаря-служаку генерала Абрамова. Заносчивый и своенравный Сидорин, все время настаивавший на каких-то особых условиях для донцов в русской армии, теперь не подходил. Злые языки утверждали, что решающую роль в крушении Сидорина сыграла его опрометчивая фраза в Ясиноватой, где он будто бы оговорился: «Не ему (Врангелю) быть правителем России и блюстителем престола — при его баронском титуле!» Последовавшая затем гибель князя Романовского (законного «блюстителя», пригревшегося за спиной генерала Слащева), а также выезд за границу председателя военного суда генерала Дорошевского приоткрыли завесу над закулисной стороной дела.
Как бы то ни было, в суворинской газете «Вечернее время» появился свежий приказ Врангеля, весьма удививший и расстроивший демократическую общественность Крыма:
«Пробил 12-й час нашей ожесточенной борьбы с большевиками. Нам надо направить всю свою мощь, чтобы соединенными силами готовиться к отражению вражеского удара. Между тем в штабе Донского корпуса царит политиканство. В издаваемой штабом газете «Донской вестник» сеется вражда между добровольцами и казаками, поносятся вожди Добровольческой армии и проводится мысль о соглашательстве с большевиками.
По соглашению с донским атаманом приказываю газету закрыть, предаю редактора, графа Дю-Шайла, военно-полевому суду по обвинению в государственной измене, отрешаю от должности командира корпуса ген. Сидорина, начальника штаба ген. Кельчевского и генквартирмейстера ген. Кислова. Главному военному прокурору назначить предварительное следствие для выяснения соучастников преступления, учиненного сотником Дю-Шайла...»
— В суд? — засмеялся будто бы на это генерал Сидорин. — Часть судная — самая поскудная! Часть оперативная — тоже препротивная! Лучше пойдемте, господа, в ресторан! Дело было проиграно, смею уверить, гораздо раньше!
И пошли. После ресторана, впрочем, всем им пришлось выехать из Крыма в Европу. Одновременно на место генерала Писарева, потерявшего в бою с блиновцами половину обоза, к кубанцам для поправки дел был назначен отчаянный осетин Бабиев.
Стремительный выход войск из крымской «бутылки» на простор Северной Таврии и молниеносный разгром и избиение с воздуха конной группы Жлобы (только в плен было взято четыре тысячи красноармейцев!) неизмеримо подняли авторитет Врангеля в международной прессе. Журналисты сравнивали нового русского главкома с Наполеоном, из Франции прибыла специальная группа военных спецов изучать «операцию». Одновременно с союзных дредноутов сгружались новенькие танки, пушки и быстролетные аэропланы новых марок.
Пока Донской корпус держали в резерве, не доверяя донцам по старой традиции, генерал Абрамов медленно, однако с завидным упорством сумел переформировать войска, сменить разложившихся, а кое-где и за воровавшихся офицеров, вводил строгость. Уволенным разрешалось эмигрировать куда угодно: на Мальту, Принцевы острова, в Египет, на недоброй памяти остров Лемнос, приют казаков-некрасовцев, а у кого сохранились деньжонки, даже и в желанный Париж... Остатки мамонтовского корпуса свели во 2-ю Донскую дивизию под начало храброго генерала Кутепова, железной рукой укрощавшего пьянство и окаянство в штабе. В войсках совсем не осталось «химических» офицеров и «прапорщиков от сохи», как обычно называли скоропостижно произведенных в офицеры урядников и рядовых казаков времен Вешенского восстания. Донскому атаману Африкану Богаевскому, вместе со своим правительством вернувшемуся из Константинополя на английском судне «Барон Бек», тактично дали понять, что нельзя без конца отмечать подвиги своих воинов повышением в чинах. Поуменьшилось число «африканских» полковников и войсковых старшин...
Старого генерала Абрамова, формалиста и нелюдима, многие считали не только черствым в обращении, но и совершенно слепым в части догляда за штабной публикой, разного рода закулисными операциями и связями. Но это не совсем отвечало настоящим качествам генерала. Все-таки он добился относительного порядка в войсках, в курортной Евпатории, где располагался штаб корпуса, не терпел вовсе доносительства и оскорбленных самолюбий. «Господа, господа! — увещательно, по-отцовски любил успокаивать он штабные дрязги, — Таврическая губерния, господа, не Таврический дворец! Поменьше словопрений!»
После того как на Днепре красные вновь отбили Каховку и плацдарм вокруг (из-за этого пришлось сместить генерала Слащева), Врангель собрал экстренный совет. Главком предупреждал своих генералов, что именно теперь, накануне нового большого наступления, нельзя — недопустимо! — проигрывать даже малые, текущие схватки с красными. На конец сентября Врангель назначил новое, решительное наступление на Каховский плацдарм с развитием успеха на другом фланге, в сторону Донбасса.