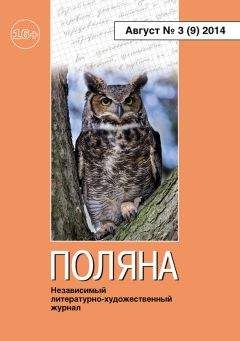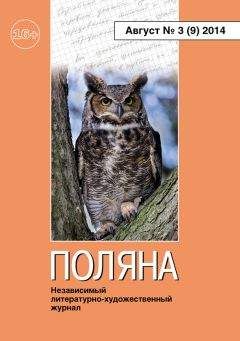Василий Ардамацкий - Последний год
Никто в Ставке не знал, что обер-офицер управления генерал-квартирмейстер Ставки штабс-капитан Михаил Константинович Лемке ведет подробнейший дневник, в который он заносит не только и не столько свои личные впечатления, как свидетельства участников или очевидцев важнейших событий войны, кроме того, он снимал копии с проходивших через его руки важных документов и вкладывал их в дневник. Он делал это очень осторожно, главным образом по ночам, ибо ведение дневников в таком военном учреждении, как главная Ставка, никак не поощрялось. Особенно осторожным он стал после того, как один из крупных работников Ставки по дружбе предупредил его, что им интересуется военная контрразведка. Позже, правда, выяснилось, что этот интерес был вызван его весьма давней связью с эсеровским журналом «Былое». В общем, Ломке надо было смотреть в оба, тем более что его дневник все глубже забирался в дебри бесславных дел войны и политики.
В этот вечер он переписывал начисто запись, бегло сделанную днем…
«…Имел два разговора, полных большого интереса, — писал он. — Зашел в комнату Пустовойтенко по его приглашению, просто поболтать. По-видимому, он соскучился и хотел немного отвлечься от ежедневно расписанной жизни. Мы вспомнили Варшаву, нашу поездку в его тамошнее имение, революционные настроения 1905 года. В это время вошел Алексеев и, поздоровавшись со мной, сел, прося продолжать нашу беседу, и прибавил, что пришел потому, что в его кабинете печь надымила.
— О чем же у вас речь?
— Просто вспоминаем старое, когда встречались друг с другом в совершенно другой обстановке.
— Дань прошлому за счет тяжелого настоящего?
— Не то что дань, — ответил Пустовойтенко, — а просто некоторое отвлечение.
— Да, настоящее невесело…
— Лучше ли будущее, ваше превосходительство? — спросил я без особенного, впрочем, ударения на свою мысль.
— Ну это как знать… О, если бы мы могли предугадывать без серьезных ошибок! Это было бы величайшим счастьем для человека дела и величайшим несчастьем для человека чувства.
— Верующие люди не должны смущаться таким заглядыва-нием, потому что всегда будут верить в исправление всего высшею волею, — вставил Пустовойтенко.
— Это совершенно верно, — ответил Алексеев. — И вы знаете, ведь и живешь мыслью об этой высшей воле, как вы сказали. А вы, вероятно, не из очень-то верующих? — спросил он меня.
— Просто атеист, — посмеялся Пустовойтенко и отвел от меня ответ, который мог бы завести нас в сторону, наименее для меня интересную.
— Нет, а я вот счастлив, что верю, и глубоко верю, в бога, и именно в бога, а не в какую-то слепую и безличную судьбу. Вот вижу, знаю, что война кончится нашим поражением, что мы не можем кончить ее чем-нибудь другим, но вы думаете, меня это охлаждает хоть на минуту в исполнении своего долга? Нисколько, потому что страна должна испытать всю горечь своего падения и подняться из него рукой божьей помощи, чтобы потом встать во всем блеске своего богатейшего народного нутра…
— Вы верите также и в это богатейшее нутро? — спросил я у Алексеева.
— Я не мог бы жить ни одной минуты без такой веры. Только она и поддерживает меня в моей роли и моем положении… Я человек простой, знаю жизнь низов гораздо больше, чем генеральских верхов, к которым меня причисляют по положению. Я знаю, что низы ропщут, но знаю и то, что они так испакощены, так развращены, так обезумлены всем нашим прошлым, что я им такой же враг, как Михаил Саввич, как вы, как мы все…
— А вы не допускаете мысли о более благополучном выходе России из войны, особенно с помощью союзников, которым надо нас спасти для собственной пользы?
— Нет, союзникам вовсе не надо нас спасать, им надо только спасать себя и разрушать Германию. Вы думаете, я им верю хоть на грош? Кому можно верить? Италии, Франции, Англии? Скорее Америке, которой до нас нет никакого дела… Нет, батюшка, вытерпеть все до конца — вот наше предназначение, вот что нам предопределено, если человек вообще может говорить об этом…
Мы с Пустовойтенко молчали.
— Армия наша — наша фотография. Да это так и должно быть. С такой армией, в ее целом, можно только погибать. И вся задача командования — свести эту гибель к возможно меньшему позору. Россия кончит прахом, оглянется, встанет на все свои четыре медвежьи лапы и пойдет ломить. Вот тогда, тогда мы узнаем ее, поймем, какого зверя держали в клетке. Все полетит, все будет разрушено, все самое дорогое и ценное признается вздором и тряпками.
— Если этот процесс неотвратим, то не лучше ли теперь же принять меры к спасению самого дорогого, к меньшему краху хоть нашей наносной культуры? — спросил я.
— Мы бессильны спасти будущее, никакими мерами этого нам не достигнуть. Будущее страшно, а мы должны сидеть сложа руки и только ждать, когда же все начнет валиться. А валиться будет бурно, стихийно. Вы думаете, я не сижу ночами и не думаю хотя бы о моменте демобилизации армии?.. Ведь это тоже будет такой поток дикой отваги разнуздавшегося солдата, который никто не остановит. Я докладывал об этом несколько раз в общих выражениях, мне говорят, что будет время все сообразить и что ничего страшного не произойдет: все так-де будут рады вернуться домой, что ни о каких эксцессах никому и в голову не придет… А между тем к окончанию войны у нас не будет ни железных дорог, ни пароходов, ничего — все износили и изгадили своими собственными руками…
Кто-то постучал.
— Войдите, — ответил Алексеев.
— Ваше превосходительство, кабинет готов, доложил полевой жандарм.
— Ну, заболтался я с вами, надо работать, — и пошел к себе.
Я вспомнил всех чертей по адресу не вовремя явившегося жандарма, мне так хотелось довести разговор до более реального конца.
— Вы думаете, — спросил меня Пустовойтенко, — что начальник штаба будет сейчас работать? Нет, после таких бесед у него всегда только одно желание: помолиться.
— А ваше мнение, Михаил Саввич, тоже такое же?
— Я по складу своего мышления мало гадаю о будущем, а пристально всматриваюсь в настоящее.
— И каким же находите его в пределах нашего прерванного разговора?
— Откровенно говоря, самым безотрадным.
— Ну а верховный?
— Он смотрит с глаз своих приближенных, которым, конечно, не пристало рисовать ему какую-нибудь мрачность. Она невыгодна для них. Каждый, особенно нацелившийся на какое-нибудь жизненное благо, старается уверить его, что все идет хорошо и вполне благополучно под его высокой рукой. Разве он понимает что-нибудь из происходящего в стране? Разве он верит хоть одному мрачному слову Михаила Васильевича (Алексеева)? Разве он не боится поэтому его ежедневных докладов, как урод боится зеркала?.. Мы указываем ему на полный развал армии и страны в тылу ежедневными фактами, не делая особых подчеркиваний, доказываем правоту своей позиции, а он в это время думает о том, что слышал за пять минут во дворце, и, вероятно, посылает нас ко всем чертям. Как может он что-нибудь видеть и знать в такой обстановке? Ведь при выборе любого человека на любое ответственное место видно, до какой степени он не понимает ничего происходящего в России.
— Да, тяжело в такой обстановке. Не завидую вам.
— Зато я завидую вам… Какое счастье знать, что ни за что не ответствуешь в настоящее время! Знаете ли вы, что приходится испытывать ежедневно? Ведь ни один шельма министр не дает теперь окончательного мнения ни по одному вопросу, не сославшись на Алексеева — как он-де полагает. Все умывают руки, но делают это незаметно, тонко. Один Штюрмер чего стоит! Ведь набитый болван, но болван со злой волей, со злыми намерениями. Вы посмотрите на армию. За парадами да обедами ее отсюда не видят, а в ней сапога целого нет, окопа порядочного нет, все опустилось, изгадилось. Да и в тылу не лучше. Там такой хаос, такой кавардак, что сил человеческих нет, чтобы привести в порядок.
— А государь заговаривает когда-нибудь на общие темы?
— Никогда. В этом особенность его беседы с начальником штаба и со мной: только очередные дела.
— Какой же выход, Михаил Саввич?
— Выход? По-моему… терпение.
На этом наш разговор закончился: меня позвали к телефону…»
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
После отъезда жены в Швецию Грубин собирался незаметно перебраться в Москву. Там его никто не знает. Он хотел поселиться там где-нибудь на окраине и ждать завершения драмы, когда сможет открыто вернуться в столицу… и явиться к представителям победившей Германии. Он был уверен, что начатое Германией наступление форсирует внутреннюю катастрофу России, которая станет для нее и военным поражением.
Но события разворачивались так стремительно и вместе с тем непоследовательно, хаотично, что выбрать момент для отъезда было невероятно трудно, а покинуть пост раньше времени он не смел. Однако все связи уже оборваны. Оставлены до последнего момента только две: Манус и Бурдуков. С последним все просто — с ним нельзя рвать прежде времени только потому, что он от страха и для своего спасения может попросту предать… С Манусом все гораздо сложнее… Этот сильный человек, поверивший в его ум, стал для него чем-то вроде любимого произведения для творца.