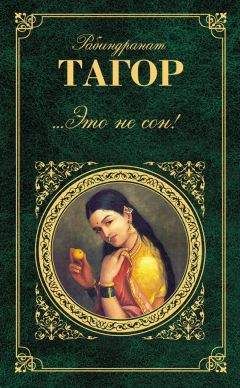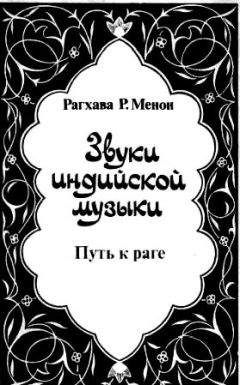Юрий Калещук - Непрочитанные письма
— Ох, Макарцев, — сказала Гели. — И ничем-то тебя не проймешь. Надежда. Вера. В принципе. Сколько я тебя знаю, вечно ты в эти бирюльки играешь, каких-то перемен ждешь. Надежда Васильевна, Вера Петровна. По-другому, по-другому! У тебя вон голова вся седая, а ты, как тот мальчик, все надеешься, что Чапаев выплывет...
— Геля, — примирительно сказал я. — Да и тебе бы пора привыкнуть...
— И ты! — взвилась Геля. — Оба вы хороши! Я думала: приехал человек из Москвы, старинный знакомый, чуть ли не родственник, — так неужто поговорить нам не о чем? А вы как заладили: ду-ду-ду, ду-ду-ду...
— Съездим на Тал инку — сам убедишься, — покосившись на Гелю, сказал Макарцев. — Конечно, пока лишь начало, пока только планы, однако настроение у людей стало иное. Переменились люди. Те же самые — а переменились.
— Так уж сразу... — усомнился я.
— Ладно. Посмотришь — тогда поговорим... А что за историю ты обещал? Про Ренессанс. Кто такой Воеводов? Киноактер?
— Сосед мой по кубрику. Наверное, я рассказывал уже. Давно это было, еще когда я на рыболовецком траулере в Норвежском море болтался.
— Ну и?..
— Сначала я Сеню опишу. Хотя внешне — ничего, чтоб из ряда вон. Здоровенный амбал с рыжей бородой. Между прочим, большой любитель чтения. Только должен сказать тебе, Сергеич, интерес Воеводова к мировой литературе носил довольно своеобразный характер. Взаимоотношения главных ли героев, эпизодических персонажей разного пола занимали его лишь до той поры, пока не развязывался главный, на взгляд Сени, драматургический узел — происходило между ними что или не происходило.
— А ты попроще не можешь, Юра? — ехидно заметила Геля. — Происходило... Не происходило... Давай прямее. Ведь я жена буровика. Чего меня стесняться?
— Будет тебе, Геля, придираться, — взмолился я.
— И не думала. Просто твой Воеводов меня заинтересовал. Так что давай продолжай.
— Ангелина, — сказал Макарцев. — Ты бы это... а?
— Я вся внимание.
— Словом, в один прекрасный день — а день действительно был прекрасный: конец апреля, солнце, полный штиль, конец рейса, все свои сетки мы уже пошкерили, ловить нам нечем, ждем только, когда придет разрешение на уход с промысла в порт — сидим мы с Сеней Воеводовым на пеленгаторном мостике, и Сеня придирчиво проверяет, научился ли я за рейс вязать узлы, гаши, сплесени, разные там кнопы и мусинги. Надо сказать, что матрос Сеня был первоклассный. Редкий матрос. Да-а... И в безмятежную эту минуту Сеня неожиданно спрашивает меня: «Вот ты, Юра, значит, учился, много ездил, в газете работал и вообще все знаешь...» После такого вступления я несколько насторожился — и не зря. Потому что Сеня спросил: «А скажи мне, что такое Ренессанс?» Я обалдело поглядел на него, ожидая подвоха. Но лицо Воеводова было пытливо и сосредоточенно. Я и начал — про Данте и про Петрарку, про Лауру и Беатриче, про Рафаэля и Тициана — про все, что знал, про все, что вспомнил, про все, что придумал. Долго говорил, а Воеводов слушал, затаясь, и мне казалось, что на его обыкновенно плутоватой физиономии отражаются печаль и смятение. А когда я иссяк, Сеня молчал целую вечность, потом сплюнул за борт и сказал вдохновенно: «Да-а... Вот когда бабы были, а?..»
— Да тогда мужики были, — заявила Геля, — не то что сейчас.
— Ренессанс, — вздохнул Макарцев. И спросил: — Ну, а ты тогда, в мае — нормально добрался? Китаева в Хантах застал?
— Застал. Потом еще в Вартовске был, с Метрусом пообщался, с Сиваком разговаривал. В Сургут залетал. Лёвина видел.
— Путилов, наш новый начальник, тоже из Сургута. Только из другого УБР. Главным механиком был.
— А у Михалыча здорово дело поставлено. Я просто удивляться не переставал — неужели, думаю, так работать можно? Оказывается, можно. Если, как ты выражаешься, с умом. И РИТСы у него давно на месторождениях, и с комплектовкой порядок, и геофизики Швейцарию из себя не изображают... Между прочим, я рассказывал Лёвину, что ты тоже собираешься РИТС на Талинке посадить, со всеми сопутствующими подразделениями.
— Собирался... До сих пор собираюсь, — заметно помрачнев, буркнул Макарцев. — В этом году так ничего и не вышло.
— Может, теперь получится... — сочувственно сказал я.
— Ага, — включилась Геля, — Теперь. Или потом. Какая разница — когда? Вся жизнь впереди. У вас только еще Ренессанс. Вы же собираетесь жить вечно, милые мальчики. Простите, но мужиками я назвать вас не могу. Не потому, что меня коробит от этого слова — и не такие слыхала. Не могу — и все. Неужели вы не понимаете: время уходит. У-хо-дит. Безвозвратно. В никуда.
— Конечно, уходит, — сказал я. — И каждый час уносит частичку бытия...
— Нет, с вами невозможно разговаривать! — закричала Геля. — Вы ничего не понимаете. И никогда ничего не поймете. Уходит время — это уходит то, что могло быть, но уже не будет. Не будет! Никогда! Ваши РИТСы, ЦИТСы, трубы, турбобуры, колонны — они-то всегда будут. И споры ваши дурацкие будут: выполним — не выполним, сумеем — не сумеем. И новые начальники будут. С новыми замечательными идеями. Какими? Пожалуйста: «Работать надо! А не...» Работа всегда будет! А жизнь? Чем дальше, тем больше «не»? Этого я уже не смогу, этим не стану, этого не успею — не, не, не!
— Геля, — сказал я. — Но иного-то выбора нет. Иначе Макарцев был бы не Макарцев, а не знаю кто. Сидоров, предположим. Оставаться собой — это тоже не так уж мало.
— Что?!
— Ну да. Самим собой.
— И со всех ног мчаться выполнять новые замечательные идеи новых замечательных начальников?
— Знаешь, Геля, один вполне образованный человек говорил, что любые изменения и тенденции надо принимать в значении обстоятельств, а не целеуказаний...
— Один! Вполне! Образованный! Человек! Говорил! Быть! Самим! Собой! И! Повторять! Чужие! Слова! Эх! Мальчики-мальчики... Ну вас всех!
— Ой, Геля, совсем я позабыл, — сказал Макарцев. — Я такой интересный журнал привез. — Он достал из кармана полушубка скрученный в трубочку номер «Огонька», развернул. — Гляди! Тут про юбилей суворовских училищ. Большая статья. Ты только посмотри, Геля, какие люди из кадетов вышли! Доктора наук, изобретатели, генералы... Может, и я, если бы не «закон миллион двести», тоже носил бы сейчас штаны с лампасами…
— Во-во, — сказала Геля. — Только штанов с лампасами тебе не хватает. Остальное все уже есть. Ладно. Пойду-ка я ужин готовить. Вам, конечно, столь низких материй не понять, вы другими категориями живете. Тенденции! Целеуказания! Однако жрать небось тоже хотите. Подождите немного. Поиграйте пока в песочек, или ручеечек, или пятнашки... Валяйте.
И Геля величественно удалилась на кухню.
Макарцев рылся в пластинках. Я знал, что он ищет. И не ошибся: пронзительная печаль расставания и гордая отвага уходящих, ожидание и вера, тревога и горечь, промельк света и туманная, туманная мгла дороги — все это называлось «Прощание славянки»...
— А я о нахимовском мечтал, — сказал я. — Еще в школу не начинал ходить, уже планы строил: закончу семь классов, поеду в Ленинград, поступать в нахимовское училище.
— Да? А почему именно в нахимовское, Яклич?
— Не знаю. Наверное, потому, что старший брат мой после четырнадцати в мореходку подался. Во Владивосток. И потом — почти все детство мое у моря прошло. Сначала Охотск, после Сахалин. Да и первые книги мои были соответствующие — дневники Кука, Невельского, Беллинсгаузена... А главной книгой своей я считал «Водителей фрегатов». То была первая книга, которую я сам купил.
— Сахалин — это какое время было?
— Сразу после войны. Почти сразу...
Разгрузка закончилась поздно вечером.
Дом на холме, занявшийся днем и полыхавший часа полтора, посылая в небо длинные белые искры, давно догорел, но сейчас, в темноте, было видно, как вспыхивало там время от времени багровое пламя, словно кто-то помешивал огромной кочергой остывающие угли.
Прижавшись правым бортом к исковерканному причалу, стояла в порту одинокая «Одесса», лендлизовский сухогруз типа «либерти», приписанный к Владивостоку, и целый день из кубриков и кают, твиндеков и спардеков спускались по трапам люди; скрипуче ворочались стрелы, под нескончаемое «вира-майна» доставляя на землю громоздкие, неуклюжие, не поддающиеся разборке комоды и жестяные ванны, набитые цветастыми узлами, тазы и лопаты, патефоны и железные кровати. Четыре огромных сибирских кота уже превосходно обжились на берегу и сейчас гнусно орали где-то в темноте причала, выясняя свои запутанные кошачьи отношения.
На крыле, у входа в рубку, сидел на корточках вахтенный матрос в распахнутом полушубке, ковыряя складным ножом в банке с тушенкой. На меня он посмотрел одним глазом и ничего не сказал. Я пришел сюда утром и простоял весь день. Вахтенные сменялись, передавая друг другу полушубок и меня заодно.
С мостика пожар был виден хорошо, были видны и люди, стоявшие густой толпой вокруг обреченного дома; что-то я не заметил, чтобы хоть кто-то из них пытался помешать огню.