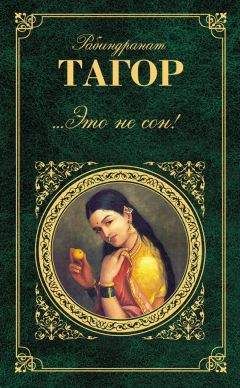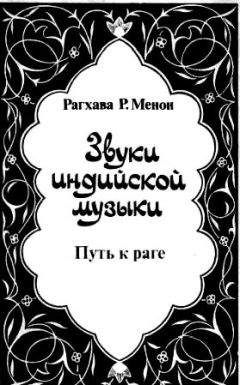Юрий Калещук - Непрочитанные письма
— Наверняка бы отправили. И не только температуру мерить. Но... Не могу я объяснить тебе, Михалыч, однако есть в этом всем для меня еще и некий этический барьер, что ли... Меня, понимаешь, коробит, когда человек сам себя куда-то выдвигает. Такая ситуация не раз возникала, фильм даже, помню, был, где один храбрый парнишка предложил себя в председатели колхоза и конечно же наладил производство так, как его замшелым предшественникам не снилось. По-современному, твердо, без сантиментов. Но как-то не в традициях это у нас, что ли.„ Ты только пойми меня правильно, Михалыч. Не то чтобы я категорически против твоего гипотетического варианта с помбуром — просто в своей душе лад с таким поступком не нахожу. Хотя знаю — ты вот говоришь, усольцевское выступление на эту тему читал, сам наблюдаю: много еще по-настоящему знающих людей остается в стороне от дела, где они могли бы принести максимум пользы. А тут, видимо, не счастливого случая надо дожидаться, не отдельных вылазок отчаянных храбрецов, а планомерную работу вести, помогая выявлять людям их сильные стороны и не вытравливая при этом «излишней скромности». Не уверен, что она бывает излишней.
— Занимаемся мы этим, много занимаемся. Тут у нас партком серьезно раскручивается. Ежегодные аттестации инженеров проводим — откровенный бывает разговор, острый, принципиальный. Ведь главная беда молодых специалистов — полное неумение работать с людьми. Не учат их этому. Никто и нигде. Иной кандидат в бурмастера убежден, что вся его роль — умение грамотно бурить скважины. Но куда он один денется, без коллектива, который ему воспитывать надо и который его будет воспитывать?.. Что же касается скромности, лишняя она или не лишняя. Я думаю так, Яклич. Когда с людьми дело имеешь, учитывать надо все. Абсолютно! Есть традиции, нет традиций — не в этом дело. Надо просчитывать любые варианты. Даже случайные. Ты же понимаешь, Яклич, что самоуверенных нахалов и самозванцев я не имею в виду. Но есть другие люди. Другие! Понимаешь? Ты читал рассказ Марка Твена «Путешествие капитана Стромфилда в ад»?
— Читал. А что?
— Значит, не читал, раз спрашиваешь. Или помнишь плохо... А я этот рассказ часто вспоминаю. Есть там один эпизод. Собрались полководцы всех времен и народов — Македонский, Цезарь, Наполеон... А главный среди них — какой-то каменщик из-под Бостона. Почему? Да потому, что он мог стать величайшим полководцем, но его и в армию-то никогда не брали, медкомиссия его заворачивала, так как двух пальцев у него на руке не хватало! Но мог бы! — если бы получил возможность. Нет, не знаем мы себя. Очень часто просто не знаем! И столько теряем из-за этого, столько но успеваем сделать — вообразить невозможно...
Закономерным, а не случайным было это почти буквальное совпадение слов Макарцева и слов Лёвина — людей, уже столько сделавших для Севера и для Тюмени, но по-прежнему уверенных в том, что они могут, что они должны мочь еще больше.
— Инерция еще в нас сильна, — вздохнул Лёвин. — Вот сейчас на наше управление поглядывают — в смысле, нельзя ли кого сманить. А мы у себя решили: брать со стороны — это значит проявлять недоверие к своему коллективу. Стали внимательно изучать возможности людей. И что же? Только за год перевели на руководящие должности более тридцати человек, из них добрый десяток специалистов рабочих. Между прочим, все отлично себя проявили на новых местах! Так что видишь, Яклич, мы стараемся и сами «случайностями» управлять.
— Режиссируете их?
— Можно сказать и так. А когда на сторону поглядывают — это от лени. Они думают, раз человек в хорошем управлении работает, так он везде сработает хорошо. А сколько талантливых людей погибает в безвестности в организациях слабых, бестолковых...
Из медленных сереньких вод временами выныривали сальные черные головы, словно сидели мы лет триста назад где-нибудь на «страшных Соломоновых островах» и тайком подбирались к нам вероломные туземцы.
— Это топляки, — пояснил Лёвин, проследив направление моего взгляда. — Жуткое дело. Если на моторке не уследишь — пропал. Федя Метрусенко однажды едва концы не отдал. Чудом выплыл. А Степа Повх, скорее всего, вот так и погиб...
— Нельзя ли еще один вопрос, Михалыч! Исторического, можно сказать, характера.
— Давай.
— Не хочется мне его задавать, но — надо.
— Надо так надо.
— Многие сейчас говорят — особенно из тех, кто недавно сюда приехал, — что большинство скоростных скважин — твоих, китаевских, громовских, шакшинских, петровских — оказались негерметичными, что качество работы было принесено в жертву темпам проходки.
— Доходили до меня такие слухи, да-а...
Не только слухи, подумал я. Еще лет семь-восемь назад мой коллега-обличитель носился по «Ленинскому знамени» с длинным списком забракованных нефтяниками стволов, и против номеров скважин четким почерком были выведены фамилии бурмастеров, чья бригады строили эти злополучные объекты. Много было в этом списке знакомых имен... Четкий почерк, каким были написаны фамилии проштрафившихся буровых мастеров, я знал, знал и автора — хозяина кабинета, на котором висела самодельная табличка «Научный центр по борьбе с многовахтовкой». Дальнейшая судьба документа осталась мне неизвестна, да и коллега-обличитель давно подвизается на руководящей работе, подпись его в газетах я что-то уже не встречаю.
— Тут два вопроса, Яклич, — сказал Лёвин. — Скорость проходки никогда — никогда! — не влияет на качество строительства скважины. Более того, чем выше скорость, тем меньше опасность осложнений. Главное — грамотная технология. Другое дело — завершающие работы: спуск колонны, цементаж, освоение скважины. Тогда, если ты помнишь, в этом деле довольно изрядная путаница была — кто бурил, кто осваивал, кто бурил и осваивал. Но дело не в этом. Качество обсадной колонны — это соединение двух качеств: трубы и цемента. Вот тут-то разных допусков хватало: бракованные трубы, другая марка цемента...
Макарцев давно про это говорил, вспомнил я. Как раз в ту пору, когда документ по редакции гулял. Или немного позднее. Не важно. Почему же тогда я не задумался над этим? Не хватило ума? Далеко уводили нити? Не придал значения?.. Как бы то ни было, а сегодняшний вопрос мой не по адресу. С себя надо начинать. С себя. В истории со списком мне не нравилось что? Демонстративная непорочность автора: он, являясь одним из главных руководителей управления, ни к каким его просчетам не считал себя причастным. Так надо же было мне в этом разобраться! Без упоительного злорадства коллеги-обличителя, но без олимпийского спокойствия недоумка. А я? Я безмятежно писал: «Через шесть суток, в день открытия XVII съезда комсомола, бригада выполнила годовой план. Время уходило от них, но они обгоняли его. С грохотом стучали часы, бились волны прилива, и раскрывались ракушки там, где море отступало, реки взламывали лед, и лопались на деревьях почки, а они работали, дети просыпались среди ночи и засыпали снова под шум дождя, а они работали...» Как красиво писал!
— Субъективные это причины или объективные, — сказал Лёвин, — решай сам. Я на тебя давить не стану.
Недавно я прочитал статью современного врача о дуэли и смерти Пушкина. Характер раны поэта, утверждал современный врач, был таков, что его могли бы спасти в любой районной больнице. Сейчас. Но тогда медицина была бессильна: любые ранения такого рода приводили к летальному исходу. Все бывает возможно только тогда, когда бывает возможно? Даже для того чтобы увидеть море из школьного двора, увидеть, а не просто знать о его существовании, необходимо было подрасти на сорок сантиметров... Тоже красиво. Нет, тут что-то не так. Ведь было же, было это! Труд на пределе сил. Мужество буровиков. А волокита с внедрением газлифта? Тоже была. А бракованные материалы для буровых? Бывали. Безответственные распоряжения? Случались. За всем этим — тоже люди, только они навсегда останутся безымянными...
Не по моей ли вине?
«Когда зеркальность тишины сулит обманную беспечность, сквозит двойная бесконечность из отраженной глубины...»
— Открываю недавно «Смену», — улыбнулся Лёвин. — Вижу ба-а-альшущий фотоочерк Лехмуса. И сразу вспомнил, как мы все вместе после китаевской пятилетки бушевали, даже стол поломали, когда принялись с Васильичем силами мериться... Когда это было, во сне — наяву?
Было. И уже никуда не уйдет, не растает, останется навсегда с нами: светом, горечью, тревогой, раскаяньем, восторгом, обещанием...
«Служили два друга в нашем полку...» — внезапно разнеслись над рекой слова старой утесовской песни.
Наверное, это заспанный шкипер с плашкоута, уткнувшегося в дальний конец затона, решил побаловать себя музыкой.
Однако слова уже вырвались на простор, и я неожиданно подумал, что, пожалуй, это одна из самых первых песен, которую я слышал в своей жизни, и когда она снова звучит, я неизменно вспоминаю маленький городок, скорее даже поселок на берегу холодного моря и молодую женщину, которая, замешивая тесто, громко распевает в пустой квартире, а я прячусь где-то между диваном и большим цветком в кадке, чтобы не спугнуть песню.