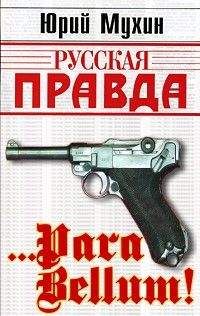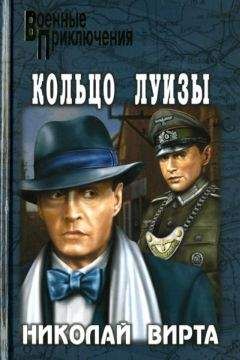Владимир Карпов - За годом год
— Иди сюда, Костик, — слабым голосом позвала она.
Глуповато ухмыляясь, он погрозил себе в зеркало кулаком и, пытаясь ступать твердо, подошел к кровати.
— Садись, — попросила она, бессильно шевельнув пальцами.
Костусь послушно пододвинул табуретку, на которой в пьяном забытьи всегда исповедовался, и, терзаясь, сел.
Мать лежала спокойная, словно прислушиваясь к самой себе. Ее худое, заострившееся лицо было застывшим, морщины на лбу разгладились, и она казалась помолодевшей. Но руки… Старческие, видевшие всякую работу, они бессильно лежали поверх одеяла, и пальцы на них тревожно шевелились, словно мать пыталась за что-то ухватиться, но не могла — они не слушались.
Заметив это и глядя уже только на руки, Алешка спросил:
— Вам плохо, мама? Может, послать за доктором?
— Не надо, сынок. Побудь со мной…
Однако ее слова, которые должны были успокоить, неожиданно взволновали Костуся. Он догадался, что спокойствие матери внешнее, а сама она в смятении. Боится остаться одна, и это, возможно, страшнее для нее, чем неизвестность, чем ожидание наихудшего. Или, наоборот, любя его, она верит, что при нем с ней ничего плохого не случится. Костуся охватила жалость. Как она жаждет, чтобы он был с ней, и как в то же время старается не беспокоить его! Бедная мать! Она долго не признавалась, что начинает слепнуть. И об этом он узнал случайно. Мать однажды попросила зажечь свет, когда он только что включил его. Она не могла согласиться с тем, что окружающий мир навсегда отходит от нее во тьму, надеялась — обойдется, а главное, считала: не надо раньше времени огорчать его. Живя им, она охраняла его покой. Всю свою жизнь мать посвятила ему — служила, делала так, чтобы было хорошо. А он? Чем он отблагодарил ее? Затаив дыхание, чтобы не дышать перегаром, Костусь склонился над матерью.
Хмель отшибало, но хмельная чувствительность оставалась, и Алешку все сильнее охватывали сочувствие и раскаяние. Он всхлипнул и закрыл кулаком глаза, готовый казнить себя.
— Что с тобой, Костик? — забеспокоилась мать. — Чего ты? Все будет хорошо. Ты не думай. Ты у меня хороший, здольный, сынок. У тебя все впереди…
За синим, искристым от морозных лапок окном завывал ветер. Его тугие порывы ударяли в стекла, и вместе с ними по стеклам била снежная крупа.
От слез полегчало. Костусь перестал плакать и, прислушиваясь к порывистому дыханию матери и завыванию ветра за окном, притих в оцепенении. Но когда она сказала, что ей легче и пусть он ложится спать, постлал постель возле ее кровати, на полу, и, не гася электричества, виновато лёг. А как только лёг, почти сразу провалился в мягкую темноту.
Проснулся он от нестерпимой тоски. Голову ломило, на грудь давила тяжесть. Костусь с трудом раскрыл глаза и, не догадываясь, где он, растерянно огляделся по сторонам. И только когда взгляд остановился на кровати, на материнской руке, которая, казалось, так и не шевельнулась с того времени, быстро вскочил.
Сначала ему сдалось, что мать спит. Он хотел было выключить электричество, но, заметив, что по лицу матери пробежала гримаса боли, застыл с протянутой к выключателю рукой.
— Костик! — окликнула она, едва шевеля бескровными губами.
Ему показалось, что голос до него дошел издалека, а в комнате было слишком светло и сама комната, белая, аккуратная, выглядела некстати праздничной.
Прошло, вероятно, всего несколько часов, как он разговаривал с матерью, но как та изменилась, как похудела! Большим, незнакомо строгим стал лоб, и вся она стала иной, более строгой, с чем-то примирившейся. Руки лежали неподвижно: сделали все, что могли, и успокоились… нуждаясь сейчас только в одном — отдыхе. Но это как раз и испугало Алешку.
— Я, мама, воды холодненькой принесу, — предложил он, хватаясь за эту мысль как за спасение.
Мать отрицательно покачала головой.
— Не хочу… Не надо… Охти, Костик, живой воды все равно нет… Нет, сынок, и не было…
Он ужаснулся и онемел. Ужаснулся тому, что она сказала, и онемел оттого, что никогда она не разговаривала с ним так безжалостно и открыто. Неужели действительно — все, и ничто не поможет?
Возможно, впервые Алешка подумал о ней и только о ней. Раньше всегда как-то получалось, что в своих отношениях с другими он считался лишь с самим собой.
И другие часто были дорогими или ненавистными ому потому, что они оказывались нужными для него или мешали ему. Так было с матерью, с Валей, с Зимчуком, Урбановичем. Они почти не интересовали его сами по себе, он не стремился понять их. И если бы заботился о матери, берег ее здоровье и покой, как она берегла его, разве пришлось бы теперь слышать страшные слова? Ей бы жить да жить. А вот потеряв Валю, он может потерять и мать, которая отдавала ему себя… Но он еще надеялся, что лаской, нежными словами любви и преданности — тем, чего раньше не знала и жаждала мать, — можно вернуть ей силы.
— Не говорите так, мама, — попросил он, не решившись, однако, прикоснуться к ней. — Мы еще поживем с вами…
— Вот и добро, Костик, — сказала она и будто забыла о нем.
Но надежда все еще жила в Костусе, жила и вера в свои слова.
— Простите меня, мама, — заговорил он, точно боясь, что мать не захочет его выслушать. — Я обещаю вам… И не думайте, что мне легко было. Я страдал, мама. Люди видели во мне ветрогона, не доверяли, и хотелось из-за этого делать все назло… Нельзя жить, если не верят и не прощают. Меня все учили, а я хотел, чтобы меня поняли, чтобы пожалели даже виноватого… Мне воздух, мама, нужен! А я и теперь готов себя отдать, чему отдавал. Я ведь до смерти город люблю…
Мать не ответила.
Почти не дыша, Костусь замер у кровати, не зная, что делать дальше, хотя в окнах уже светало и это почему-то укрепляло его надежду. Мысли беспорядочно сновали в голове. Наконец он остановился на одной — надо все же бежать в амбулаторию и позвать врача. Костусь вышел в прихожую и, не попадая в рукава, начал одеваться. Но что-то властно приказывало ему вернуться и еще раз взглянуть на мать. Он вернулся к двери и затрепетал от радости. Приподнявшись на локтях, мать смотрела прямо на него, и глаза ее были полны давно неведомого света.
— Я вижу, Костик, — удивленно прошептала она, но тут же в изнеможении упала на подушку. — Конец, Костя… Отмаялась…
Она вздрогнула, как вздрагивает человек во сне, когда говорят, он растет, и выпрямилась. Из левого глаза, прорвавшись сквозь ресницы, выкатилась слеза.
Алешка застонал и, как безумный, бросился к глухой стене. Прижавшись к ней грудью и щекою, он в отчаянии застучал кулаками в стену, клича соседей на помощь.
Глава третья
С похорон его, Прибыткова и Зимчука Алексей потянул к себе. В квартире Алешки два дня не топили, и в комнатах настыло — стало, как на улице. Да его и нельзя было оставлять одного. В своем безучастии ко всему он мог делать теперь только то, что ему подсказывали.
Похороны были малолюдными. Кроме Алексея, пришли ребята из его бригады, Сурнач, Зимчук, Прибытков с женою и несколько старушек, которые и руководили всем.
Стройтрест прислал два грузовика. На один поставили гроб, скамейки у бортов и красную пирамидку, положили на кабину венок из искусственных цветов да сосновых лапок и молчаливо, с непокрытыми головами, тронулись за грузовиком, который почему-то все стрелял из выхлопной трубы. Когда повернули на Советский проспект, к процессии присоединилась Валя. Она, вероятно, ожидала тут или шла вслед незамеченной, не осмеливаясь подойти. Убитая, она побрела рядом с Тимкой, не имея сил стать незаметной, как все. Тимка же, наоборот, оживился. Ему вообще трудно было быть печальным, потому что печали не было и все казалось естественным, таким, как должно быть. По проспекту, сигналя, проносились автомашины, на перекрестках, красиво махая полосатыми, похожими на восклицательные знаки жезлами, стояли подтянутые милиционеры, из репродукторов лилась бравурная музыка, и Тимка шагал почти как на демонстрации.
На Круглой площади работала снегоочистительная машина. Заглядевшись на нее, он пошел тише и даже остановился бы, не подтолкни его сзади Прибытков. Прямой, торжественный, каменщик шествовал, всем видом показывая, что исполняет необходимый долг перед человеком, которого уважал и с которым никогда уж не встретится, долг, который когда-нибудь отдадут и ему.
Алексей шел рядом с Алешкой и, погруженный в свои заботы, поддерживал его под руку, не особенно обращая внимание на убитого горем товарища. "Старуха умерла, и ее не вернешь, — думал он. — Человек родится, живет и, свершив свое, уступает место другим. Важно только оставить после себя добрую память. И хорошо, если каждый проживет столько, сколько она. Поймет ли это Костусь? Запьет, бродяга, задурит и может свихнуться совсем. Нехорошо…" И мысли его обращались к стройке, к бригаде.