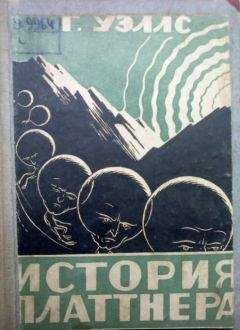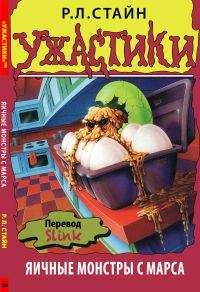Анатолий Знаменский - Красные дни. Роман-хроника в двух книгах. Книга вторая
А дури, глупости первостатейной сколько у нас, товарищи! В Тацинском районе жил-поживал до революции донской помещик Греков в прекрасной усадьбе. Окрестные безземельные мужики захватили землю, как и следовало, а усадьбу, разумеется, сожгли... Теперь письменно требуют денег и кирпича на постройку начальной школы. Молодцы, ребята, только вот денег и кирпича у нас пока что нет, придется подождать и подумать на досуге: куда же пропала помещичья усадьба? Ведь в ней-то и школу бы поместить можно... А вот — более горячая бумага: манычские станицы просят выделить мышьяковисто-кислый натр для борьбы с грызунами и насекомой тварью вплоть до саранчи, и тут надо помочь, но предварительно послать агронома-инструктора, не то потравят прудовую воду и мелкую птицу — были прецеденты...
Еще очередная бумага: Малодельская коммуна, притча во языцех... Тринадцать безлошадных дворов, рабочих рук — 4 пары, детей и стариков — 11, беременная женщина — 1, агитаторов — 7, пожарник — 1... Земля выделена и нарезана по севооборотам, семена завезены еще в марте, но пахать и сеять некому... Единственно позорная точка на всей весенне-полевой карте губернии — не управились! Просят:
1. Выделить скот и хозинвентарь в потребном количестве.
2. Дать не менее четырех молочных коров для спасения детей.
3. Прислать осужденных к принудработам казаков-повстанцев для выполнения хозработ и запашки земли — 20 человек.
4. Прислать фураж и сено для будущих коров и лошадей.
5. Снабдить семенами в полной потребности, так как ранее завезенные семена частично расхищены, а частично уничтожены мышами...
6. Приелать литературу по текущей политике и самообразованию.
7. Завезти дрова к предбудущим холодам.
8. Арестовать председателя ближнего Малодельского сельсовета Нехаева Кузьму за к. р. речи о вредности нашей коммуны для парода и всей Республики, а также попытку ее роспуска...
Над этой бумагой председатель исполкома задумался надолго. Запустил растопыренные пальцы в жидкие, приспущенные на лоб волосы и даже как-то обмер внутренне, совсем не зная, что тут придумать, как быть с этой коммуной.
С одной стороны — люмпены и шкурники, не умеющие не только работать, но и думать о себе, сосущие кровь молодой Республики Советов, старшие из которых по всем законам революционной совести подлежат суду за расхищение семенного фонда и убежденный и принципиальный паразитизм, с другой — беднота, голь, несчастные люди, сроду не наедавшиеся досыта черного хлеба, сломленные прежним, капиталистическим образом жизни... Можно, безусловно можно, ведь с течением времени даже ату кампанию лодырей приучить к долу, к земле!.. Будут ходить по шнурочку, как милые, в рамках той самой идеи, на которой сейчас пытаются паразитировать. Как дважды два — четыре! Но время, где ваять недостающее время, где набраться твердости, желании и умения помогать, откуда достать денег, скота, инвентаря, агронома для этой дохлой общины, в конце концов?
Коммуна... Как это Миронов говорит иногда в бессильной ярости: «Сонливый, вшивый и плешивый взялись советский воз везти! Лебедь, щука и рак!» Так-то оно, несомненно, так, но политика пока предписывает укреплять эти стихийные артели без всякой основы и называть ростками будущего... Кто-то придумал, и без задней мысли очевидно: «ростки будущего...» Приходится на заседаниях одергивать пылкого комиссара по земельным делам... А он упорно доказывает свое: если коммуна — цель, то как же можно начинать при нынешнем развале строить эту цель? Ведь к ней надо подходить медленно, именно прицеливаться, прикидывать, анализировать, да не один год, с необходимой осмотрительностью и средствами! Во всеоружии техники, агрономии, науки, постепенно воспитываемой сознательности, которой еще пока у нас нет! Надо же прямо сознаться — нет!
Да, эту бумажку из Малодельской ему лучше не показывать, как-то пустить по линии агитпропа, пускай поедут и разъяснят, что паразитические группы населения никто поддерживать не будет, даже если они и нарекли себя «коммуной»... Коммуна — это сообщество людей, которое и себя кормит, и армию может содержать, и другим угнетенным помочь, только так, дорогие сограждане...
Еще документ. Священник Егорьевский пишет с прискорбием, что местными молодыми юношами, из числа неверующих безбожников, выбиты кирпичами окна в божьем храме. Супротивно здравому смыслу, общественной морали и декрету об отделении церкви от государства. Просит священник Егорьевский через местную группу РКСМ урезонить наиболее отъявленных ребят, которые «в простоте душевной не ведают, что творят...»
Безобразие! Стекло денег стоит, да и завозить его не так просто! Написал резолюцию синим, гневным карандашом: «Губком РКСМ, не считать хулиганство антирелигиозной борьбой. Всыплю на бюро! Изыскать средства, остеклить выбитые окна. Обсудить случай на собрании ячейки».
Ворох бумаг не уменьшался, девушка из приемной подбрасывала новые. Снова вылезла на глаза телеграмма Иорданского. Не выдержал, сунул в самый дальний ящик стола...
Вошел без предварительного доклада Миронов.
Основательно исхудавший, на лбу черная полоса загара, шея кирпичного цвета, усы обвисли — не до форса, глаза горят, как у чахоточного... Взбил усы кулаком, с яростью. Ничего не остается делать, когда от всего обличья остались одни прославленные усы. Во всей Республике таких усов наперечет: у главкома Каменева, у Миронова, да еще у Буденного. На Дону, стало быть, ныне — единственные...
Но усталость прямо бросается в глаза. Прошел, покачиваясь, как при морской болезни, сел...
Что-нибудь срочное? — поднял голову председатель исполкома.
— Понимаете: разбился в седле! Кому сказать, особенно прошлогодним полчанам, блиновцам, — засмеют. В тылу, на тихой пашне, ихний командир Миронов растрясся, как пластунская копна, качает его. Смех и грех!
— Завтракали сегодня? — с усмешкой спросил председатель.
— Чего-то такое жевал... Да. Но дело не в этом! Я сейчас только что из Новочеркасска, Андрей Александрович. Прошу прекратить там очередное безобразие. Пресечь! Позвоните срочно, или я этого трижды подлеца Краева все-таки застрелю под горячую руку и уж тогда буду по всей справедливости ответ держать!
— Я слушаю, — настороженно сказал Знаменский.
— С первой минуты, как мы с вами съехались сюда к общей работе, вы знаете, земотдел из последних сил налаживает показательное хозяйство в Перепаковке. Не на базе коммуны, а на базе советской экономии, совхоза. Это — наша опора: старое учебное хозяйство, люди, питомник и все прочее надо восстановить на советской основе. Вспахали и посеяли все в срок. Теперь пары и полупар, кое-какой уход... Вчера узнаю: новочеркасский пред забрал из хозяйства пять пар рабочих быков... волов по-вашему! В Новочеркасск, в город! Зачем? Третьи сутки цепями и веревками на Соборной площади валят памятник Ермаку. Как вредное сооружение времен царизма! А он не падает, крепко в землю вбит, и, похоже, этих быков мне до зяблевой вспашки не вернут! Надо отменить головотяпство, Андрей Александрович.
— То есть как? Мы санкционировали уничтожение двух памятников: бывшим атаманам Платову и Бакланову, с разбором оснований и пуском кирпича и щебенки в дело. О Ермаке пока никакого решения... — замялся Андрей Александрович.
— Вот. Этот Краев — Он сверхэнтузиаст! Ему сказано: двух атаманов свергнуть, а он — под замах — и третьего норовят порушить. А про Ермака даже декабрист Рылеев песню сочинил, и весь народ с ней живет с рождения до конца дней...
— Н-да, что-то тут не так, — сказал Знаменский.
— Начали долбить основание, а оно чугунное, не поддается. Обкопали со всех сторон, на шеломную голову покорителя Сибири — петлю и — цоб-цобе! Третьи сутки потеют, веревки порвали, а он, говорю, все стоит.
У Миронова прямо руки чесались, но теперь он был учен, сдерживал гнев. После некоторого молчания сказал:
— Главное дело, быки нужны в хозяйстве. Там уже пропашка междурядий началась. Да и насчет Ермака в Новочеркасске нехорошие разговоры, дескать, Ермак-то царю не служил, за что же его-то? Это, мол, надругательство над всей бывшей вольницей... А кто и посмеивается со злорадством: «Ермак-то! Не могут с ним коммунисты справиться, стоит, как перед татарами!..» Это — к чему? И зачем, нам, коммунистам, свергать Ермака?
Странное дело. Резкий и вызывающий во всеми, Миронов, здесь, перед председателем исполкома, тишал, сохранял обходительность и даже покорность. И зависело это не от должностной подчиненности, не от того, что Знаменский был рекомендующим не так давно, а исключительно от внутреннего уважения к личности, к политическому стажу и каторжанскому сроку, отбытому в Александровском централе. Тем еще, что он отчасти напоминал Филиппу Кузьмичу покойного Ковалева...
— Я насчет Ермака должен выяснить, Филипп Кузьмич, — прямо сказал Знаменский. — Может, просмотрел какую-нибудь директиву?