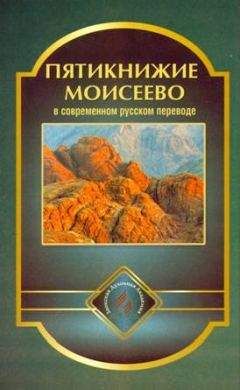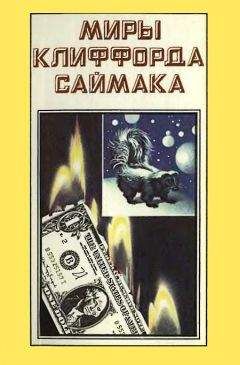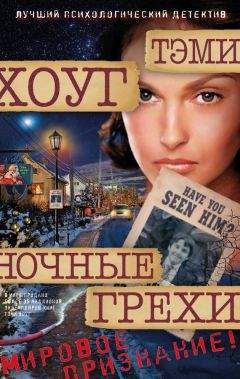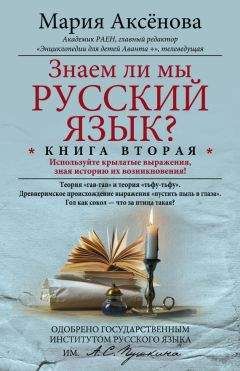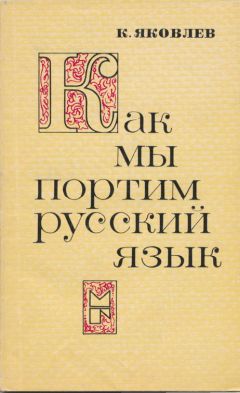Мария Правда - Площадь отсчета
— А что я думаю, Ника? Комиссия расценила сие как смертный приговор, а я сам, — Мишель развел руками, — даже и мой либерализм имеет пределы, mon cher!
— У меня есть ощущение, что он это делает нарочно, — пробормотал Николай Павлович, — он меня дразнит!
— Или раскаялся, — примирительно предложил Мишель.
Николай Павлович в раздражении щелкнул себя стеком по сапогу. Пес принял это за команду и послушно бросился к ноге. — Когда каются… молодец, рядом! …не становятся в позу. Все его письмо есть поза. Ты согласен?
— Хороша поза, — недоуменно поморщился Мишель, — он со смертью играет. К чему это?
— А вот к чему! — Николай Павлович резко остановился. — Он не играет со смертью — он добивается смерти. И тогда он будет мученик, а я — изверг. Он проиграл — и мстит!
— Господь с тобою, Ника, нормальные люди так не делают, — не слишком уверенно возразил Мишель. — Ну–ка погоди, тут нет никого… Ты не хочешь? Ну я сейчас!
Он оглянулся и отошел к кустам.
— Я тебя слушаю, Ника!
Николай Павлович тоже оглянулся. И точно — никого не было, только в конце аллеи маячил неподвижный как статуя караульный.
— А что комиссия, — спросил он широкую спину Мишеля.
— Комиссия… настроена кровожадно… особенно старик Татищев… коего матушка изрядно уже успела обработать… всех желает четвертовать, да и все…
— Жаль, что комиссия прежде меня все почитала, — недовольно отметил Николай Павлович, — надобно было прямо ко мне…
— Да писал–то он на комиссию, — Мишель оправил мундир и вернулся на дорожку. — Татищев мне так и сказал: я, Ваше императорское высочество, креатура Марии Федоровны… ея желаниями и руковожусь!
— А ты что сказал, — морща губы, поинтересовался Николай Павлович. По хитрому лицу Мишеля он предчувствовал шутку.
— А я и сказал… Видите ли, граф… я тоже креатура Марии Федоровны, однако своим умом существую!
— Смешно, — без улыбки констатировал Николай Павлович, — идем, креатура. А матушка, значит, жаждет крови? Гусар! Ко мне!
— Как капитолийская волчица… Кроме шуток, Ника, что ты можешь на все это возразить? Оставить без наказания сей злодейский умысел? Тогда что мы будем делать в следующий раз? Как сказал бы твой любимый Сперанский — се есть прецедент!
— Сперанского я не люблю, к твоему сведению. Я его уважаю — это разные вещи. А что касается прецедента — был лишь преступный умысел…
— Хорош умысел, — взвился Мишель, — на нас напали — и весьма ощутительно! Даром мы весь день, как зайцы, прыгали под пулями! Я до сих пор не понимаю, как нас с тобой тогда не пристрелили…
— Так что ты предлагаешь? — кричал Николай Павлович. — Всех казнить? Превосходно! Четвертуйте, колесуйте, рубите головы — только давайте вы с матушкой будете сами этим заниматься! Вы ведь только болтать горазды с Татищевым, а отвечать буду я, не так ли?
— Да ты меня неправильно понял… ты же сам говорил, что все будет решать суд, а мы только…
— Сколько угодно — суд, ты, матушка, старая каналья Татищев — и решайте! А я умываю руки! Гусар! Домой!
По дороге во дворец Николай Павлович несколько успокоился и попросил прощения у Мишеля, однако на душе у него было положительно нехорошо. Его мучили дурные предчувствия.
Мишель улыбался, но и у него на душе кошки скребли. Он успокоился, только водворившись в своем любимом кресле у камелька и закурив сигару. «Это плохо, что он не курит, — подумал Мишель, — ничто так не помогает от нерв!» Однако сигары ему показалось недостаточно, и он велел принести выпить. Это действительно помогло. После первой же рюмки лафиту хорошее расположение духа вернулось и уже не покидало его до самого вечера…
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ, АПРЕЛЯ 30, 1826 ГОДА
Сперанский переживал вторую молодость. У него снова появилось великое дело. Только ежели когда–то, в начале царствования Александра Благодетеля, он имел дело с ленивым и мечтательным существом, которого ему приходилось верноподданнейше подгонять, то теперь новый принципал все время подгонял его. Этот царь был человек энергический, жадный до деталей, охочий во все вникнуть — и ему–то и хотелось в полной мере показать, на что ты способен. Снова, как и 20 лет назад, не делая себе скидок на возраст, работал он круглые сутки, и ежели по некоему капризу природы в сутках стало бы более часов, Сперанский бы сие только приветствовал.
Рабочий день его начинался в пять утра, при свечах. Он вставал, пил кофий в кабинете, туда же подавали ему и гренки — и работал. В девять принимал просителей и читал мемории. В двенадцать, по английской системе, ел он ленч (на ленч или к чаю раза два в неделю заезжала к нему взрослая дочь), после ленча спал у себя в кабинете на диване один час. Затем работал до пяти. Пил чай. Далее ехал во дворец. Ежели требован был государем, работал с государем. После приема ехал домой. Обедал в восемь — дома или в семь — во дворце. До двенадцати перечитывал и правил сделанное за день. За сим спал.
Подчиненные его ненавидели за точность во всем. «Это не человек, это машина заведенная, без сердца», — говорили они. Даже Николай Павлович, который ценил таких людей безмерно, тоже считал, что Сперанский не способен любить. Но он как раз таки умел любить в большей степени, нежели многие другие люди. Любил он в молодости жену свою, англичанку Элизабет Стивенсон, самозабвенно, страстно, до безумия — был счастлив с ней два года и чуть не лишился рассудка, когда, оставив его с младенцем, померла она чахоткою. Никогда он более не женился и с другими женщинами близок не был. Всю свою нерастраченную любовь перенес он на дочь, тоже Елисавету. Дочь любила и понимала его, как никто, и одна только потаенная ревность к ее мужу и отравляла теперь его жизнь. Все остальное для него была работа, и работу Сперанский тоже любил — истово, как языческий жрец любит своего мстительного и жестокого бога.
— Дай мне законы, — не попросил, потребовал у него Николай Павлович, и Сперанский решил положить остаток своей жизни на сию благородную цель. Он был глубоко, фанатически религиозен и верил в божественное Провидение, но при этом, вместо того чтобы пассивно ожидать от него преобразований, стремился к ним сам, неустанно наводя порядок в своей вселенной. Вселенная взывала к нему из первобытного хаоса, и он греховно чувствовал себя единственным ея творцом и садовником. Титанический труд его не был совсем неблагодарен. Когда ему удавалось округлить очередное дело или меморию, найти точную формулировку для закона или особенно удачно обработать сложную статью — тогда бывал он искренне счастлив.
Каждое утро просыпался он с радостью и спешил к своим бумагам. Бумаги ждали его, разложенные аккуратнейшими стопками в нумерованных папках. Неряшливость и неупорядоченность бесила его во всем, и его небольшое холостяцкое хозяйство работало аккуратно, как хронометр. Он ценил своего английского камердинера за то, что тот умел шелковые чулки его и ночные сорочки раскладывать в комодах по цветам и по дням недели. Сие был порядок, и в таком порядке, по мнению его, и могло только существовать мыслящее существо.
Точно такой порядок хотел он завести и в России, описав ее существование законами настолько точными и справедливыми, чтобы каждый человек сделался необходимым винтиком в великолепно отлаженном механизме государства. Будет порядок, будет процветание всеобщее. К воплощению своих идей он был близок при Александре. Но тогда он был молод, взялся за дело рьяно, во многом преуспел — что и сгубило его. Его растущего влияния про дворе побоялись, да и убрали его в ссылку, сперва в деревню, затем в Пензу, а там и в Сибирь, пускай ссылка и была прикрыта губернаторским чином. Но до Пензы, в 11‑м году, он был близок как к разрешению крестьянского вопроса, так и к осторожному намеку на парламентское правление. Бюджет тогда же он привел в профицит, государственный долг изничтожил, удешевление ассигнаций остановил. И что? Ссылка, а затем и война свели на нет все его завоевания. Казна снова была пуста, ассигнации падали, долги зияющие и порядка никакого. Сперанский хорошо понимал, что дело о «друзьях четырнадцатого числа» было свалено на него в качестве испытания. Новый государь проверял его лояльность накануне главного, самого масштабного прожекта, который предстоял ему после рассмотрения сего важного, но все–таки частного дела. Ежели все будет удовлетворительно с делом о мятеже, ему поручено будет составление всего законодательного кодекса Российской империи — а се, возможно, станет его наследием, венцом всей его жизни. Заниматься кодификацией он хотел безумно, а что касается теперешнего дела, никак нельзя было допустить в нем и тени необъективности. Государь подумает, что он пристрастен — и отстранит от полезной деятельности. Таким образом, Михайло Михайлович опять ходил по лезвию ножа — как тогда, в 11‑м году, когда убрали его руками Карамзина, обвинявшего его в опасном для России западничестве. Западником Сперанский не был. Либерализм, выветрившийся вместе с молодостью, никогда не доходил у него до республиканских устремлений. Россия, в его представлении, всегда была монархией, причем монархией естественной и богоугодной. Евангельская антиномия — Кесарь — Бог — на Россию не распространялась. Когда на престоле не кесарь, не царь Ирод, а помазанник Божий, между Богом и властью нет противоречий — Бог и есть власть.