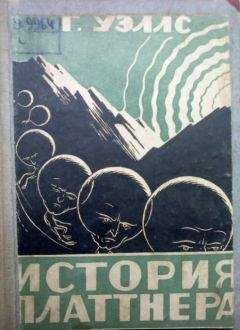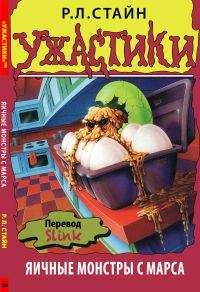Анатолий Знаменский - Красные дни. Роман-хроника в двух книгах. Книга вторая
Побросали комиссарам...
— Послушайте, вы — идеалист! — посмеивался и успокаивал сентиментального поэта поручик. — Побросали, конечно! Известная генеральская нерасторопность, но… те, которые хотели уплыть из совдепии, те уплыли! По воздуху, на крыльях, на ковре-самолете от Идолища-погана, да-с! Как и мы с вами. Еще и на Тамани многие успели перебраться. Вот теперь у Сидорина в Крыму наберется тысяч пятнадцать казаков, так это и есть — цвет бывшего Дона! Это и есть те сливки, преданные белому знамени без страха и упрека. А остальные — все эти сто тысяч — потому и отпали, что изнутри были подпорчены с самого начала! Червоточина эта вся: мироновцы, подтелковцы, сорокинцы, буденновцы, булаткинцы... да веревок не хватит в блистательном будущем, чтобы перевешать всю эту сволочь! Наша контрразведка всю душу вымотала из себя, море чернил извела, чтобы как-то очернить их перед верховными красными жрецами! Теперь в Чека скопились мешки ложных информаций о некоторых краскомах, а они — словно Иваны-дураки из сказки — и в огне не горят, и в воде не тонут! Да и эти, что ушли с Агеевым в Тифлис, тоже не лучше!
— Н-нет, — твердо возразил Жиров. — Нет. В данном случае, поручик, я не соглашусь. В последнем случае виноват полковник Всеволодов, и только он! Это он ненавидел казаков и раньше, ненавидит и теперь, он же все это и устроил!
— Какой... полковник Всеволодов? — обомлел Щегловитов.
— Тот самый, что был командармом у красных. Да. Он еще там старался утопить в ложке воды и Миронова, и всех его казаков, не доверяет и нашим...
— Но позвольте, какое же отношение... теперь-то?!
— Да вы разве не знаете, что полковник Всеволодов ныне начальник новороссийского рейда, заправлял всей этой неразберихой и позором давки в порту?
— Боже, вот уж кого не думал встретить живым-здоровым, так это полковника Всеволодова, — трезво сказал поручик Щегловитов. — Но мир, оказывается, тесен...
В Севастополе снова неразбериха, толчея, повальное пьянство, барышничество интендантов и цивильных перекупщиков. Гибнущий Последний Вавилон. Смешение языков: добровольцы, казаки-донцы, казаки-кубанцы и терцы, калмыки, немецкие бароны без поместий, спившиеся офицеры с великокняжескими фамилиями, проститутки... В ресторанах и переполненных номерах пьяные дебоши, стрельба по зеркалам, дым коромыслом. На улицах голодный солдатский сброд с отчаянием и потерянностью в глазах, вшивое стадо, потерявшее вождей и самую веру в них... Поручик Щегловитов, дерзкий и расчетливый контрразведчик, человек, к которому благоволил сам Антон Иванович Деникин, даже он на время потерялся в этом безбрежии хаоса. Он целый месяц прозябал в обовшивевших скоплениях полувоинов-полубеженцев «Крымской бутылки», не находя выхода. Для других находился выход в постыдной эмиграции в Европу (под благовидным предлогом важной командировки) либо в честном самоубийстве без посмертных записок и объяснений. Но он не готов был ни к тому, ни к другому. Как и все уцелевшие в зимних и весенних боях офицеры русской армии, он пребывал это время в состоянии полной душевной прострации и каких-то ожиданиях. И вдруг все преобразилось.
Забегали интенданты, откуда-то из темных казарменных и барачных углов повылезли старые вахмистры и фельдфебели, послышалась долгожданная команда: «Смирно, р-р-равняйсь!..» — свободнее стадо на улицах, зашаркали метлы дворников по утрам. Как в старое доброе время заблестели вымытые стекла витрин и парикмахерских. Офицеры сбрасывали с себя похмельную одурь, другие просто наедались после голодухи, чистили мундиры и амуницию.
Новое имя поднялось из небытия и хаоса: Врангель!
В конце марта 1920 года новый главнокомандующий Врангель прибыл из Константинополя, куда он был в свое время сослан Деникиным за интриги...
Пароход под Андреевским флагом причалил в Севастополе на благовещенье. Затянутый в белую кубанскую черкеску барон, потомок воинственных шведов, державно спустился на крымскую землю и проследовал со свитой под сверкавшие своды Морского собора. На бледном длинном лице барона чернели вдумчивые, жестокие, пронзительные глаза.
Соборная площадь, ступени и паперть, внутренность храма — все было забито военными чинами и чистой публикой. В тесноте и давке грудились массы, желая поближе рассмотреть нового главнокомандующего, надежду и поруку всех этих людей.
Молодой викарный епископ Вениамин в роскошных ризах благословил генерала Врангеля. Напряженным от волнения и осознания важности минуты, хорошо поставленным голосом первосвященник приветствовал нового генерала-мстителя:
— Дерзай, вождь! Ты победишь, ибо ты Петр, что значит кремень, твердость, опора! Ты победишь, ибо сегодня день благовещенья, что значит надежда, упование... Смелее иди, ибо меч отмщения в деснице твоей.
Представители гражданской власти — бывшие сенаторы, члены Государственного совета — подали главкому докладную записку... В записке говорилось о невозможности мира с большевиками, необходимости продолжать вооруженную борьбу с анархией.
У выезда с площади ждал генерала роскошный, только что присланный из Франции черный лакированный автомобиль.
Через неделю начали прибывать английские танки, артиллерия, снаряды, новенькие военные аэропланы «хэвиленды», истребители фирм «Анасаль» и «Вуазен»...
Севастополь преображался. Говорили, что на Перекопе барон приказал прекратить всякие работы по укреплению старых позиций, готовился к решительному и сокрушающему броску через горловину «бутылки», на просторы Северной Таврии.
Поручик Щегловитов отыскал знакомого полковника в новой контрразведке, получил назначение в информационный отдел, заменивший старый деникинский Осваг. Подъесаула Жирова вместе с опекаемыми им донскими девами он как-то потерял из виду. По-видимому, они уехали в Евпаторию, по месту расквартирования Донского корпуса генерала Сидорина. Щегловитов посмеивался и потирал руки: исправно работали военно-полевые суды, дисциплинарные комиссии. По ночам за городом слышались одиночные выстрелы и залпы: расстреливали как пойманных комитетчиков, так и пьяных дебоширов из своей среды. Был случай, когда под пулю пошел какой-то штабс-капитан, в запое разбивший зеркало в ресторане...
На заборах Севастополя, Бахчисарая, Евпатории и других городов и курортных поселений появились броские, отпечатанные старым шрифтом воззвания Врангеля:
За что мы боремся?
Мы боремся за наши поруганные святыни.
Мы боремся за то, чтобы каждому крестьянину была обеспечена земля, а рабочему его труд. За то, чтобы каждый честный человек мог свободно высказывать свои мысли. За то, чтобы сам русский народ выбрал себе хозяина. Помогите мне, русские люди!
Полковые оркестры по утрам гремели мажорной медью, выходили на смотры-парады корпуса: крымский генерала Слащева, добровольческий Кутепова, кубанский Писарева, донской Сидорина. Раздавались зычные команды и рапорты, но печать обреченности лежала на каждом лице, предчувствие новых мук и разочарований таили глаза. Генерал Бабиев, беззаветный удалец-осетин, командир кубанской дивизии, горяча коня, кричал на смотру с обнаженным клинком над головой:
— Га-а-аспада а-ффи-це-ры, братцы мои кубанцы! Мы прорвем фронт и по трупам наших врагов пойдем на Москву! Но всякий патриот и герой, идущий ныне в первую атаку на безбожную сволочь, уже должен считать себя погибшим за веру и великую Россию! С богом, ура!
Грезились впереди великие победы, смелые конные рейды, великая кровь, и рождалась в сознании и отчаявшемся сердце неотвратимая идея: смерть или победа...
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
1
Двадцатого апреля 1920 года по весенним улицам Ростова-на-Дону проходила походным порядком на польский фронт 1-я Конная армия.
Гремели полковые оркестры, мелькали штабные значки на, ликах, полыхали кумачовые знамена прославленных бригад и дивизий. Гарцевали на поджарых, отдохнувших под Майкопом конях, картинно красуясь, смуглые от ветра и солнца всадники, опасно-хваткие, жестокие в неумолимом сабельном взмахе. Шла конница революции — донские и кубанские казаки, ставропольские и сальские крестьяне, слободские воронежские уроженцы, донецкие шахтеры, калмыки Городовикова, горские, сербские, мадьярские эскадроны...
Заново кованные копыта дончаков и полуарабов высекали острыми шипами искры из булыжных мостовых. Шумно, говорливо, празднично было на Садовой и Темерницкой, по Таганрогскому проспекту. Народ толпился, с интересом и сочувствием провожал глазами огромную, непобедимую и неукротимую в атаке конницу, кинутую единым приказом куда-то в неописуемую даль, навстречу новой войне с буржуями, польскими панами. Верилось — войне победной и недолгой.
На ростовском ипподроме — митинг и большой военный парад.
Прошли, развернулись эскадроны и полки 4-й и 6-й дивизий, замерли в резервных колоннах стройно, образцово, конь в коня, стремя в стремя. Напротив, посверкивая на солнце остриями штыков, выстроились стрелковые части гарнизона. Слева от трибуны шумели флаги рабочих делегаций. Трубачи дали сигнал: «Слушайте все!» — летучая группа верховых прожгла хорошей рысью вдоль замершего строя, развернулась перед трибуной, где стояли рабочие представители, председатель губисполкома Знаменский, военком Северного Кавказа Базилевич, земельный комиссар Миронов, другие власти Ростова. Буденный и Ворошилов спешились, поднялись на трибуну, поздоровались с каждым за руку. Ворошилов усмехнулся, пожав руку Миронова, вспомнил, видно, еще царицынское знакомство, сказал что-то веселое, вроде «воюем, казак?..», Буденный отвел глаза...