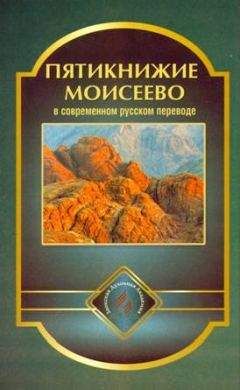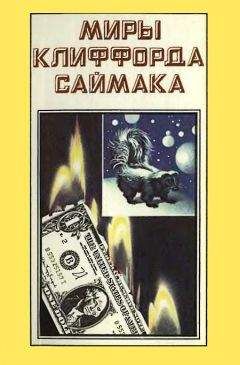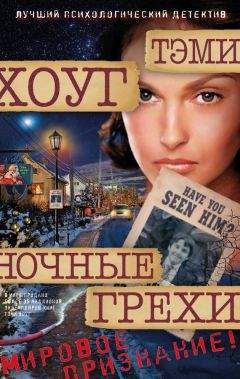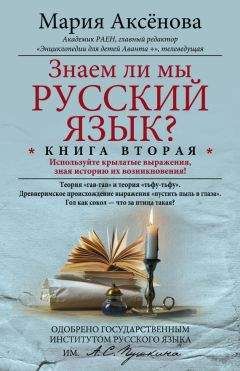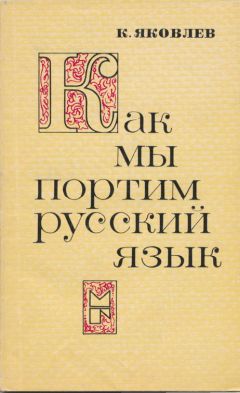Мария Правда - Площадь отсчета
«Ты говоришь, друг милый, что я не должен у тебя просить прощения, потому что я, конечно, не хотел против тебя грешить; но я, друг милый, ни против кого не хотел грешить. Познание греха удержало бы меня от согрешения. Ложное понятие о долге и обязанностях моих, может быть, и о чести; забвение, что Бог все устраивает по своей предвечной премудрости и предведению к благому концу, что мы не должны предугадывать судеб его, но, в простоте сердца, исполнять волю его и что противящийся власти противится воле божией — вот, друг мой, причина моего преступления и твоих страданий. Благодарю Бога моего, что он мне их указал, и молю его, чтоб простил меня».
Написав эти строки и отдав запечатанное письмо солдату, Сергей Петрович почувствовал самое живительное облегчение. Грудь не болела, крови не было, Господь явно укрепил его. Это явилось подтверждением правильности его слов. Сознание прояснилось. Он с самым хорошим, добрым христианским чувством подумал сейчас о Николае Павловиче. «Да если бы сие только от него зависело, он простил бы меня, — думал Трубецкой, — он бы просто сказал мне: иди, я тебя прощаю. Тогда всю жизнь свою я обязан посвятить ему. Ежели он не сможет меня простить совершенно, я приму страдание свое как должное, и не просто как должное, как необходимо нужное мне. Тогда всю оставшуюся жизнь свою я посвящаю Богу и Каташе, которая непременно будет искать страдания мои разделить со мною». Все было понятно. И только последний вариант, если накажут его смертию, он пока не мог принять для себя. Ему это было страшно, и он еще не решил, что заслуживает этого.
Он лежал на топчане и думал об этом, когда дверь приотворилась. Это было не ко времени. Посуду после ужина уже забирали, голоса в коридоре затихли. Куранты только недавно вывели свою надоедливую мелодию — God save the King, которую в Петропавловской крепости отзванивали каждый час. Было десять вечера.
— Здравствуйте, князь Трубецкой!
Это был священник, в черной рясе и черной же камилавке, с окладистой бородой и крестом на груди. Облачение никоим образом не позволяло усумниться в его сане, но погруженный в свои тяжелые мысли Сергей Петрович до такой степени был сейчас не готов к любому общению, что ему стало неприятно. Более того, в полутьме камеры высокий черный человек, тут же занявший собою все скудное пространство, казался вышедшим из дурного сна.
Трубецкой вскинулся на кровати, не здороваясь и не подходя к благословению, и растерянно смотрел на гостя. Священник по–домашнему оглянулся, подбросил под себя табурет и уселся, женским заботным движением подбирая широкую рясу. Когда он сел, лицо его стало лучше видно при слабом свете одного огарка. У него были живые, глубоко посаженные карие глаза.
— Отец Петр Мысловский, протоиерей Казанского собора, — представился он высоким окающим говорком, — не тревожьтесь, князь, — добавил он, — я такой же грешник, как и вы.
Сергей Петрович до сих пор не находил слов, так он был взволнован.
— Я не агент правительства, — продолжал Мысловский, — мне не важны ваши политические убеждения. Мне важно лишь то, что вы страдаете.
Слова его, лишенные церковной выспренности, моментально успокоили Трубецкого.
— Страдаю, отец, — с готовностью согласился он.
— И хорошо! — улыбнулся Мысловский, — и хорошо!
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ РОМАНОВ, МАРТА 12, 1826 ГОДА
Все его мысли были поглощены султаном Махмудом. Николай Павлович был согласен с Нессельроде: Турция для нас важнее, чем Франция, и прямо сейчас, с первых же шагов своего правления, он должен был объяснить султану, каково отношение России к Молдавии и Валахии, под чьей защитой находятся сербские и греческие единоверцы, и каковы будут последствия возможного нарушения Бухарестского договора. Николай Павлович несколько ночей просидел над текстом ультимативной ноты и был доволен ею. Граница по Дунаю, Сухум наш! И это последнее наше слово: навеки! Туркам уступать невозможно. На самом деле он столько думал над поведением своего противника Махмуда, что, как казалось, многое в нем понял. Султан, хотя и десятью годами старее его, был уже человеком нового века. А будучи человеком нового века, Махмуд не желал более быть азиатом. Отсюда — желание его избавиться от средневекового института янычар и ввести в Турции европейские костюмы и обычаи. При этом султан родился азиатом, пришел к власти, как азиат, убив брата своего и перерезав его сторонников, но сопротивлялся сему родимому пятну как только мог, с азиатским же фанатизмом. Ах, как похоже! Точно смотришься в кривое зеркало.
Снова и снова взор его обращался к портрету Петра Великого: пращур смотрел на него весело и уверенно. Он решился истребить в России Азию, но не истребил ее в себе. А мы? Мы продолжаем его дело. И точно — мы просвещены и развращены не хуже французов. А Азия — неистребима, и она в нас.
Так не лучше ли положить конец сей досадной двойственности?
Об этом он размышлял вслух на очередном обеде у матушки, которая в отличие от прочих женщин в семье живо интересовалась турецким вопросом.
— Вы сегодня особенно интересны, Николай! — похвалила Мария Федоровна, поправив на пышной груди бриллиантовую булавку, коей держалась салфетка, — но сомнения ваши необоснованны. Мы — Европа, и давно уже Европа.
Это прозвучало безапелляционно, как приговор. Николай Павлович обвел взглядом семейный стол. Ему стало смешно. Напротив сидела Великая княгиня Елена, невестка его, чистокровная немка, рядом императрица Александра, жена его — пруссачка, во главе стола матушка Мария Федоровна — немка. И они с Мишелем, неизвестно каким образом относящиеся к дому Романовых, учитывая разгульную натуру Великия Екатерины, — кто они? Разговор сейчас велся по–немецки, ради дам, наедине они с братом беседовали по–французски, и им ли пристало оспоривать принадлежность свою к Европе?
— Все, что у нас есть европейского, так недолговечно и тонко… вот как пенка на молоке, — продолжал Николай Павлович, указывая на серебряную сливочницу на чайном подносе, — сдул и нету. И это — уже пять поколений просвещения, и просвещения насильственного. Так что нашему другу султану предстоит путь долгий, болезненный и напрасный. Зачем уродовать естество?
— Так что им теперь, этим туркам, не развиваться, сидеть в гареме… с янычарами? — спросила Мария Федоровна. Первым, как всегда, понял всю прелесть двусмысленности Мишель, который откинулся в кресле и захохотал, вовсе не боясь сердитого взгляда матушки. Дамы, сдерживая улыбки, наклонились к чашкам.
— Полно, Мишель, маман оговорилась, — усовещивал брата Николай Павлович, ощутительно толкая его коленом под столом, — она имела в виду евнухов, верно, маман?
— Да уж… спроси любую султаншу, Ника, с кем она более желает остаться в гареме… молчу, молчу, — Мишель в последний раз фыркнул и утер глаза салфеткой, — простите, маман!
— Вы ребенок, Мишель, и всегда будете ребенком, — изрекла Мария Федоровна, беззлобно, но решительно положив конец веселью, — а нам надобно обсудить еще многие серьезные темы. Нынче не до ребячества!
Дамы поняли, что обед окончен, и встали, разбирая свои веера. Шарлотта повела Элен в детскую: у крошки Адини вышло уже четыре передних зубка, и она стала прелесть как хороша. Мишель и Николай галантно встали из–за стола, провожая жен. Камер–паж, ожидавший их ухода, подал Великому князю сигару на серебряном подносе. В покоях императрицы Мишелю разрешалось курить, что категорически запрещалось в комнатах Николая Павловича, который испытывал непреодолимое отвращение к запаху табака. Здесь, из уважения к матушке, приходилось терпеть, и Николай встал и начал ходить по обеденной зале.
— Итак, — выпустив первое облачко густого белого дыма, начал Мишель, — наши последние изыскания в деле друзей четырнадцатого числа установили определенно: цареубийство ими не только обсуждалось, но и заведомо планировалось.
Николай Павлович остановился у камина, облокотившись о полку. Торжественный тон Мишеля раздражал его. Глава следственной комиссии как будто бы желал ему что–то доказать.
— Ты имеешь в виду планы полковника Пестеля, Мишель?
— Позвольте, — подбросилась Мария Федоровна, — это о плане покушения на нашего ангела Александра? Это правда, что негодяи сбирались его убить?
— Отнюдь, маман, — с тем же торжеством в голосе продолжал Мишель, — они сбирались убить нас всех!
— Негодяи… без Бога, чести и совести, — воскликнула Мария Федоровна, — я знала, я знала!
— Надеюсь, что ты не голословен, Мишель, — тихо сказал Николай Павлович, пощипывая усы.
— Разумеется, — с готовностию подхватил Мишель и потянулся к новенькому инкрустированному портфелю, который он принес с собой, — я захватил кое–какие протоколы… Позвольте… вот показания подполковника Поджио, который беседовал на эту тему с полковником Пестелем. Зачитываю: «Давайте, мне говорит, считать жертвы, и руку свою сжал, чтобы производить счет ужасный сей по пальцам, — это свидетельствует Поджио, — уточнил Мишель, продолжая чтение. — Видя Пестеля перед собой, я стал называть, а он считать; дойдя до женского пола, он остановил меня, говоря: знаете ли, что это дело ужасное; — Я не менее вас в том уверен, — отвечал я, — но тут уже я видел, что он хотел мне дать усмотреть, что я бесчеловечнее его; сей же час после сего опять та же рука стала предо мной и ужасное число было тринадцать! Наконец, остановившись, он, видя мое молчание, говорит так: этому и конца не будет, ибо также должно будет покуситься и на особ Фамилии, в иностранных краях находящихся. Да, я говорю, тогда точно уже конца ужаса сему не будет, ибо у всех Великих княгинь есть дети».