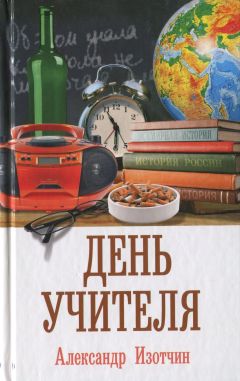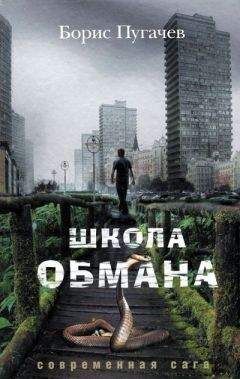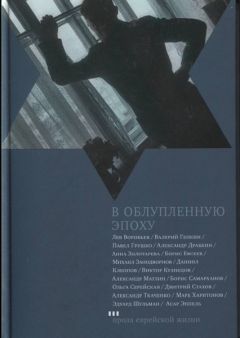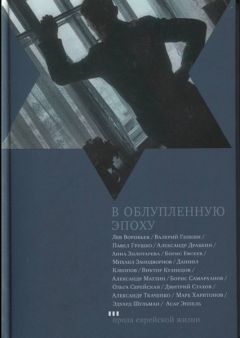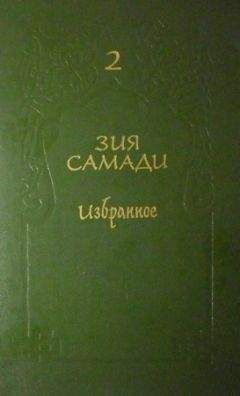Александр Изотчин - День учителя
Весь следующий год Кураш продолжал свои поездки в Москву. Стало известно, что он готовится защищать диссертацию по истории кожевенной промышленности Заболотска в одном из столичных вузов. Из поля зрения властей учитель как бы выпал. Произошло это потому, что у Страхова появились новые раздражители. В какой-то мере их появление спровоцировало проведенное в намеченные сроки 840-летие Заболотска, так хорошо организованное, что Андрей Мирошкин даже его и не запомнил. Зато неугомонный Петр Мамаев, возмущенный «празднованием оскорбительного для каждого истого заболотчанина псевдоюбилея», организовал клуб «Артания», члены которого собирались по вечерам в его фотоателье. На первом заседании клуба были поставлены задачи — изучение истории родного края, борьба за установление правильной даты основания Заболотска и переименование его в Артанию. Члены клуба взялись за археологические изыскания в окрестностях города, но вскоре в местном отделении КГБ появилась информация, что на собраниях «Артании» обсуждаются политические вопросы, а на одном из них Мамаев даже сделал доклад «О масонском факторе в революциях 1917 года». Затем горожане заметили, что вечерами на некоторых аллеях парка появляются группы «мамаевцев», обутых в сапоги и одетых в черные косоворотки, подвязанные шнурками. Наконец «органами» были выявлены контакты Мамаева с лидерами знаменитой московской «Памяти». Профилактические беседы с членами клуба привели к оттоку из него людей — от первоначальной численности (около 30 человек) осталось 10 активистов, но деятельности своей они не сворачивали.
Впрочем, юбилей города вряд ли стал главной причиной оживления неформального движения в Заболотске. Кроме «черносотенцев», как окрестили членов «Артании» демократически настроенные заболотчане, городским властям начали досаждать деятели экологического движения, народившегося почти одновременно с клубом Мамаева. В большинстве своем они работали на «Башмачке», однако это не помешало им начать сбор подписей за остановку фабрики, которая сбрасывала какие-то отходы в Латузу. Экологическое движение так и стало называться «Латуза». Кроме молодых рабочих в «Латузу» вошло несколько местных интеллигентов, а возглавил ее поэт, член Союза писателей РСФСР Николай Кондаков. Как оказалось, у него были связи с иностранной прессой, и теперь раз в неделю в Заболотск приезжали журналисты из капиталистических стран, которые брали интервью и фотографировали активистов «Латузы», стоявших у проходной «Башмачка» с плакатом «Латуза впадает в Оку, Ока — в Волгу, Волга — в Каспийское море. Как бы чего не вышло». Прекратить их деятельность не удалось — в «Латузу» вступило много экзальтированных субъектов, которые заявляли, что ради «будущего детей» они готовы на все. Самое интересное, что как раз у них-то никаких детей не было. Властям пришлось учитывать и то, что Кондаков слишком засветился на Западе, во Франции даже готовился к выходу сборник его стихов. В условиях «нового мышления» он оказался неприкасаем. И потому очередная «вылазка» Кураша уже не встретила со стороны руководства Заболотска никакого отпора, тем более что произошла она в центральной прессе.
На этот раз свежеиспеченный кандидат исторических наук выступил со статьей в столичной «Комсомольской правде». Называлась она «Возвращение к храму» и повествовала об истории и нынешнем бедственном положении бывшей Заболотской церкви Рождества Богородицы. Бывшей потому, что, уже без колокольни, снесенной во второй половине 1950-х годов, лишившись купола, церковь была перестроена и превратилась в мастерские автобусного парка, выросшего поблизости. Еще в 1970-х вокруг этих мастерских начали какую-то возню энтузиасты из общества охраны памятников, но в результате ничего не добились. Храм столько раз перестраивался уже в царский период, что доказать его принадлежность к XII веку не удалось. Все пространство вокруг автобусного парка за последние тридцать лет было плотно застроено кирпичными и панельными домами разной этажности (в одном из которых — кирпичной пятиэтажке — и жила семья Мирошкиных), так что сама идея восстановления памятника архитектуры тонула в серой безликости района и казалась безнадежной.
Как и статья в «Вечернем Заболотске», новое историко-публицистическое творение учителя привлекло внимание общественности и актуальностью темы (в СССР недавно отметили Тысячелетие Крещения Руси), и яркими образами, которыми изобиловал текст. Например, описывая нашествие Наполеона, Кураш не пожалел красок для передачи паники, охватившей жителей Заболотска, ожидавших конца света после того, как Москва была занята французами и начала гореть. Пожар столицы был хорошо виден с колокольни храма Рождества Богородицы. Узрев далекое зарево, заболотчане вдруг начали разбегаться из города и прятаться по окрестным лесам. Не растерялся лишь священник отец Алексей, который каждый день звонил в колокол, созывая прихожан к началу богослужения и давая знать испуганным людям, что Заболотск пока цел, а следовательно, конец не наступил. Это мужество батюшки, как следовало из статьи, вселило в горожан мужество и спасло Заболотск от запустения. Зато нынешнее состояние городского хозяйства не вызывало у автора статьи восторга. В публикации сообщалось и о дефиците товаров в магазинах, и об отсутствии у молодежи перспектив, и о пьянстве, и о молодежных группировках, поделивших Заболотск на сферы влияния, и о многом другом, чему прочитавшие статью заболотчане ранее не придавали большого значения, но что теперь, несмотря на явную преувеличенность в описании масштабов происходящего, чрезвычайно их взволновало. Упадок Заболотска — тезис об этом явно следовал из статьи, и с ним, видя пустеющие прилавки магазинов, большинство местных было готово согласиться — Кураш отсчитывал с момента закрытия храма Рождества Богородицы. Сцена этого рокового события также была описана в статье — где-то в середине 1920-х годов к церкви верхом подъехал оперуполномоченный, вывел старенького священника, имя его не сообщалось, из храма и погнал пешком в сторону местного отделения милиции. Старичок почти бежал рядом, боясь отстать от лошади. После этого храм некоторое время стоял закрытым, но потом был очищен от церковного имущества, и началось его новое служение людям то в качестве клуба, то склада, то наконец мастерских. Ненужная колокольня ветшала, превратившись в место для мальчишеских игр. Те же мальчишки разрушали ее, расписывая стены и зачем-то выламывая из них кирпич. Так продолжалось до тех пор, пока, во времена Хрущева, к делу не подключились взрослые и не разобрали колокольню целиком, использовав кирпич в строительных нуждах…
Учитывая тираж «Комсомолки» и ажиотажный интерес к печатному слову, царивший в конце 1980-х годов, новое творение Александра Владленовича прочли многие. Учитель сразу стал заметной фигурой не только в Заболотске, но и в столице, поездки в которую стали теперь еженедельными. А вскоре вокруг Кураша объединилась группа единомышленников, которая стала именоваться клубом «Обновление». В сравнении с другими неформальными объединениями города идеологическая база нового клуба казалась более солидной. Тут не было маргинальности «Артании» и однобокости «Латузы». Каждый, кто в Заболотске разделял оппозиционные настроения (а к 1989 году этого уже можно было не стесняться), находил в программе «Обновления» симпатичные для себя стороны. «Обновленцы» выступали и за восстановление исторической правды, и против привилегий партаппарата, и за «очищенный» социализм, и за реставрацию культурных памятников Заболотска. Поэтому неудивительно, что, когда начались выборы, городская библиотека выдвинула Кураша кандидатом в народные депутаты СССР. Из неформалов конкуренцию ему мог составить лишь Кондаков. Мамаев даже не смог выставить свою кандидатуру — до того далекими показались его идеи рабочим «Башмачка». Но и лидер «Латузы» проявил себя не с лучшей стороны — в разгар избирательной кампании укатил по приглашению какого-то коллежа во Францию. В итоге «зеленые» в основном голосовали за Кураша, который представлялся им самым прогрессивным из кандидатов.
«Обновление» развернуло энергичную кампанию в поддержку своего лидера. Были организованы и печатание листовок, и митинги в городском парке. Десятки добровольцев, неравнодушных к событиям, происходившим в стране, совершенно безвозмездно помогали Курашу пройти в народные депутаты — расклеивали на стенах листовки, раздавали их на улицах, обходили в качестве агитаторов квартиры. Андрей также решил оказать учителю содействие. Правда, на митинги он не ходил, но один раз расклеил листовки, за которыми явился на квартиру историка. Юношу тогда поразил вид жилища Кураша — двушка была завалена грудами агитационных материалов, между которыми бродил маленький мальчик с горшком в руках — сын будущего народного избранника. На кухне совещалось не менее десятка людей, оттуда валил табачный дым. Дальше прихожей Андрея не пустили — жена учителя всучила ему стопку листовок, а сам Александр Владленович, высунувшись из прокуренной кухни, дружески кивнул ученику. Оказавшись на лестнице, Мирошкин взглянул на бумажки, которые держал в руках. Больше половины листа занимала черно-белая, не очень четкая фотография Кураша, задумчиво смотрящего вдаль и державшего в руках какую-то толстую книгу. Под фото имелась надпись: «Наверх должен пройти Кураш! Он — наш!»