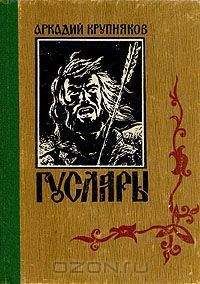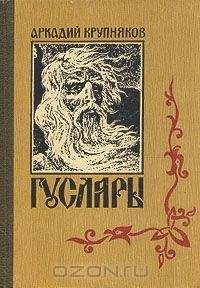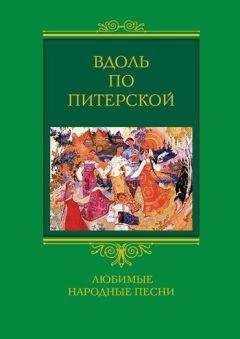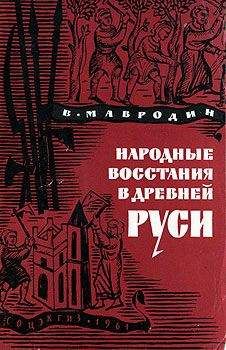Хамид Исмайлов - Мбобо
Иной раз червям надоедает копаться в моем разлагающемся теле и они покидают меня, прорывая за собой тоннели на поверхность земли — отдышаться после дождя. Тогда я чувствую пустотами своего тела пустоты этих каверн, в которых иной раз, как поезд в метро, струится состав воды, а иной раз — просыпающиеся к маю муравьи сыплются, как люди, в переход.
Мы сами шли тем далеким маем слегка наверх в бесконечном червячьем тоннеле перехода между «Проспектом Маркса» и «Площадью Свердлова», скользя сандалиями по блестящему мамору пола, и я думал, что, если заполнить эту трубу водой или сливом всей Москвы.
В этом ребристом, звено за звеном, переходе, уже отрезвевшая мама остановилась посередине и, не найдя на что присесть, облокотилась о выступающее под полукруглыми звеньями гранитное ребро своего рода фундамента. Пока она примащивалась поудобнее, чтобы перевести дыхание, у нее из рук выпал платочек и расстелился под ногами. Она махнула рукой, как обычно, не в силах нагибаться за ним.
А когда я нагнулся, чтобы подобрать, прямо перед моим носом на него упало два медных пятака. Покуда мама кричала кому-то вслед, другие, решив, что женщина недовольна медяками, стали походя бросать кто десять, кто пятнадцать, кто двадцать копеек. Мама посмотрела на меня, растерянного, и расхохоталась. Я тоже стал смеяться.
Мы не стали брать ни этих денег, ни платочка, а просто незаметно смылись с этого места, как будто нас унесло наверх потоком то ли воды, то ли дерьма, и выбрались, как на сушу, на станцию Свердлова, где, посидев некоторое время в вафельном зале, встали, нырнули под низкую арку, напоминающую мраморную скамейку, и сгинули в поезде, движущемся на север.
Станция метро «Горьковская»Я меньше всего хочу, чтобы у вас сложилось впечатление о моей маме как о постоянно полупьяной стерве. Совсем нет, и не потому, что она мне мать — годы, прожитые ею в жизни, и число лет, которые я провел на земле и под землей, уже почти уравняли нас, и я хочу сказать, что она была удивительно красивой женщиной. Вы ведь не имеете представления, как выглядит красивая полурусская, полухакаска. Она выглядит намного красивей и выразительней красивой русской, еврейки, француженки, да кого хотите! О ее носике, прямом и тонком, мой первый отчим, Глеб, говорил: «Как у мадонны с горностаем.» Тот, кто сталкивался взглядом с глазами моей матери, никогда не мог забыть этих глаз; их миндалевидная, четко очерченная форма вместе с разлетом тонких бровей на молочном лице делала их неким лазером, который прожигал, приклеивал, цеплял, опустошал. А цвет их — наподобие осенних затонов. Есть два-три портрета, оставшиеся от мамы: один — моему первому отчиму Глебу, второй — Ирине Родионовне, третий — еще кому, но никто так и не повесил эти портреты на стены, так пронизывающи эти глаза, что их стыдливо, под предлогом того, чтобы портрет не запылился, то ли чтобы свет не пожелтил его, кладут глазами вниз, и они, таким образом, до сих пор смотрят вглубь, на меня.
Я часто думаю, что я так не похож на свою маму, хотя иной раз замечаю, как она глядит сквозь меня, улыбается, морщит лоб, но стоит мне увидеть свое отражение, и я унываю: как она могла считать своим сыном эту самую неведому зверюшку, которую никто не признавал имеющим к ней хоть какое-нибудь родственное отношение, каково ей было иметь баласенком негритенка — такой красивой и необыкновенной?! Наверняка многие считали это придурью, причудой: ну решила красивая женщина усыновить обезьянку, мало ли кого держат дома: кошку, ежа, крокодила. Она не на шутку злилась, когда предполагали такое при ней, помню, однажды у нее из носа выстрелила струйка крови от гнева. Напротив, она обладала мною с такой полнотой, что иногда я чувствовал удушье от ее материнской опеки.
Парадокс заключался в том, что, пытаясь доказать всем мою принадлежность к ней, она и впрямь превращала меня в куклу, домашнее животное, игрушку, которая и поет, и пляшет, и бегает лучше всех на коньках, и учит дома с Мариной Борисовной французский язык.
Но я отвлекся. Эти мысли в смутном виде приходили ко мне и тогда, далеким маем, когда мы, приехав на станцию «Горьковская», стояли у дальней стены, напротив эскалатора, ведущего вниз на «Пушкинскую» (как бы глубоко ты ни опускался на дно, всегда есть бездна, у которой ты стоишь на краю), и я глядел не на эту лестницу, ведущую вниз, а в противоположную сторону, на глухую стену, где на разваливающемся каменном паруснике стоял одинокий Максим Горький. Он был выточен из коричневого камня, а потому цвет его лица напоминал мой, и я радовался этой схожести. Когда-нибудь, думал я, я тоже стану таким высоким и тонким, когда-нибудь и я отпущу волосы до плеч и встану на парусник, когда-нибудь и я.
Но в это время к нам сзади подошел мой отчим — дядя Глеб и, чмокнув нас обоих в щеки, предложил: «Ну что, пошли в загул?!» Поначалу я перепугался, думая, что дядь-Глеб знает все про сегодняшний день, но, поскольку он повел нас наверх, я понял своими детскими мозгами, что он получил сегодня зарплату или гонорар.
Если вы помните, по выходе из горьковской полукаменной кишки на другой стороне улицы Горького за углом стояло модное кафе «Лира». Дядя Глеб повел нас туда. На нас были предусмотрительно заказаны места у самой стеклянной стены, открытой пейзажем наружу, и я, после немедленного исследования туалета, сел за стол, чтобы созерцать начало Тверского бульвара смеркающимся майским вечером.
Каждому есть что скрывать, — думал я, глядя на вечер, и мама расспрашивала отчима о прошедшем дне, о его успехах. Я ведь и сам до сих пор скрываю, все никак не выдам свой, может быть, самый болезненный секрет, что начиная с детского сада меня обзывали не черным, не черножопым, не мартышкой, не макакой и даже не шоколадиком, а. Пушкином. Не Пушкиным, а именно Пушкином. Я часто думал об этом человеке, которого то ли ненавидел, то ли любил за все мои муки, вот и теперь он чернел по ту сторону площади, и думал я, насколько он был абиссинцем по прадеду Ибрагиму Ганнибалу, настолько я был русским по своему деду — полковнику Ржевскому, происходившему из древнего рода Ржевских, выдавших когда-то свою дочь за арапа. И если бы, думал я, бог дал мне родиться не здесь, а в Абиссинии, как знать, быть может, и я стал бы их Пушкиным.
Нам принесли куриную лапшу, я отвлекся от разглядывания улицы, но зато перебросил взгляд за соседний столик, за которым сидела пара французов (напрасно, что ли, Марина Борисовна вбивала в меня одну неделю все эти «les muttons et les chevres», а другую — «des carrots et des beteraves»), улыбавшаяся мне, как могут улыбаться только иностранцы (подозреваю, что и отец мой завоевал мою мать не блузкой и не джинсами, а своей белозубой — на черном лице — улыбкой).
Мать все мурлыкала с отчимом после бокала грузинского «Саперави», и пока я копошился в своей тарелке с лапшой, эта пара успела трижды подмигнуть мне. «Il est mignon? Ne c’est pas?» — шептались они фразами, что никогда не могли попасть в классифицированный мир флоры и фауны Марины Борисовны, но по тону я улавливал нечто приятное и теплое.
На второе принесли котлеты по-киевски, мне и отчиму, и татарское азу — маме. Отчим возбужденно рассказывал о сценах свего следующего романа, замешенного на трагической любви писателя и проститутки, мама довольствовалась тем, на что ее создал бог: быть красивой женщиной, которую любят и которая любит себя сама; она рассеянно слушала отчима и наслаждалась своим «Саперави». Французы продолжали улыбаться мне. В какое-то мгновение мама почувствовала, что я гуляю взглядом по посторонним и обернулась на мгновение, чуть не сбив сумку, висящую на спинке стула, куда она успела уже сложить то ли получку, то ли гонорар отчима. Увидев приличную пару, она обернулась с еще непогасшей улыбкой, на которую уже рассердился отчим. Он тоже бросил недовольный взгляд за спину, но через минуту перешел к описанию финальной сцены.
Когда мы закончили ужин, этой замечательной французской парочки уже не было. Но не было и сумочки, висевшей давеча на спинке ее стула, а вместе с сумкой и всей косметики, получки с гонораром отчима, ее пропуска на автозавод. Мама плакала, топала ногами, кричала на меня, дескать, я навлек этих воров, отчим яростно матерился, официанты стали звонить в милицию, через некоторое время, разрезая темноту синими мигалками, примчалась патрульнопостовая машина, и двое милиционеров, вошедших из темноты в вестибюль кафе, увидели зареванную маму со мной и отчимом и чуть ли не хором воскликнули: «Москва! Опять ты?!»
Моей детской пушкинской силы не хватит, чтобы описать, что было тем вечером и той ночью у отчима дома, но я об этом непременно расскажу, когда наберусь горьких сил.
Литера четвертая
Когда твое тело похоронено в землю, уже не различить, где ты лежишь: в Серебряном Бору, на Лосиноостровской или в Битцевском парке. Все расстояния становятся равноудаленными — на дистанцию вечности…