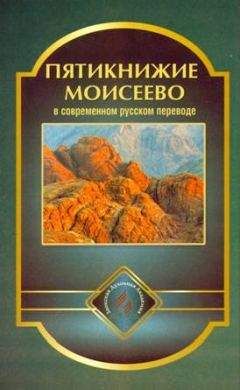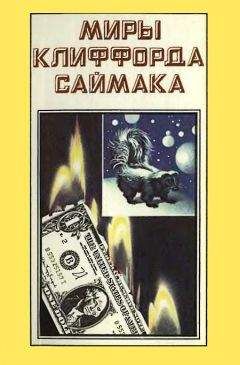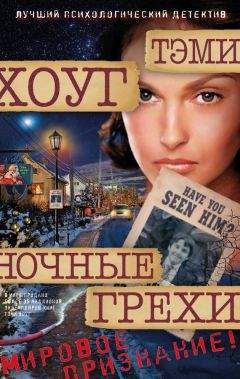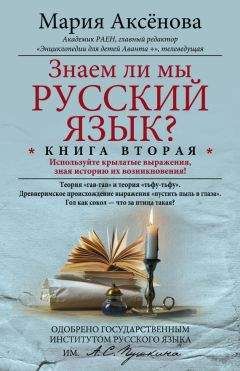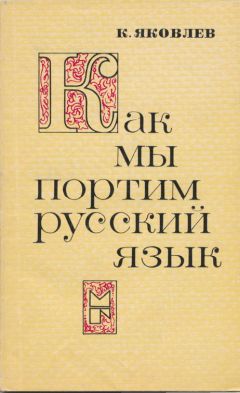Мария Правда - Площадь отсчета
— Коллежский асессор Кюхельбекер!
— Я… — прошептал Вильгельм.
Левашов посмотрел на него внимательно, потом шепнул что–то часовому. Солдат отлучился в другую комнату и принес Вильгельму стул, на который тот благодарно рухнул как куль с мукой. Ноги у него и точно подкашивались.
— В присутствии сего высочайше учрежденного комитета, по отрицанию коллежского асессора Пущина, дана ему очная ставка с коллежским асессором Кюхельбекером, — громко читал Левашов по бумажке. — Привести коллежского асессора Пущина! — У Вильгельма сердце так и ухнуло вниз. Пущин выглядел на удивление хорошо, шел твердо, был выбрит, цепи свои нес легко, аккуратно подвязав их за среднее звено белым платком. И что самое удивительное, Иван улыбался и кивал ему!
— Жанно… — прошептал Вильгельм чуть слышно и уронил голову на грудь.
— Коллежский асессор Кюхельбекер, — продолжал читать Левашов, — утвердительно показал, что во время происходившего на Петровской площади 14 декабря неустройства, он, Пущин, вызвал его ссадить из пистолета Его высочество Михаила Павловича, в которого он и целил, будучи уверен, что пистолет его не мог произвести выстрела. Пущин же напротив сего отвечал, что господин Кюхельбекер напрасно вышеизложенное показывает на него и что он никогда сего и в мыслях не имел. Таковы ли ваши показания, господин Пущин?
— Именно таковы, ваше высокопревосходительство, — твердо отвечал Иван.
— И вы отрицаете показания господина Кюхельбекера?
— Отрицаю, генерал.
— Не имеете ли чего добавить?
— Добавить не имею и сколько бы ни испытывал память и совесть свою, но не могу сего взять на себя, поскольку и мыслей таковых не имел, — четко, как по–писаному отвечал Пущин.
Вильгельм задыхался, глаза его были полны слез. Его нравственные мучения достигли апогея. С одной стороны, ему хотелось сейчас броситься на колени перед Иваном и перед следователями, просить у всех прощения, говорить о том, как он забывчив и безумен, и все, что он показывал до этого, ему просто почудилось, но с другой — совесть кричала ему, что Иван лжет, а он прав, и назад этого взять уже никак невозможно…
— Господин Кюхельбекер, продолжаете ли вы уличать господина Пущина? — спросил Левашов.
Вильгельм судорожно сглотнул и перевел дыхание. Он поднял голову и посмотрел на Ивана. В ясных глазах Пущина не было ничего, кроме сострадания.
— Я? Да. — выдохнул он.
— Утверждаете ли вы это с уверениями чести и клятвы?
— Я? Да. — Вильгельм закрыл глаза, и две крупные слезы одна за другой скатились по его щекам.
Остальные детали очной ставки он потом помнил смутно, как во сне. Его, кажется, подвели к столу, сунули в руку перо и заставили подписать протокол. Потом Иван оказался с ним совсем рядом и прошептал что–то вроде: «Держись, Кюхля!» Потом повели его обратно по лестнице, где он чуть не упал, потом на улицу, потом в сани. А потом он и вовсе обеспамятел…
…После того как заключенных увели, генерал Левашов встал из–за стола, достал свою любимую короткую трубочку и отправился в другую комнату к камину, где уже сидел и курил комендант крепости генерал Александр Сукин. Левашов всегда был с ним преувеличенно любезен — в основном из сострадания к носителю столь неудачной фамильи. К тому же Сукин был изранен в боях за отечество, вследствие чего имел вместо ноги деревяшку.
— Вот что, генерал, голубчик, — обратился к нему Левашов, раскурив трубку, — был у нас сейчас заключенный Кюхельбекер… Совсем он у вас плох, вид цинготный… Еще немного, он и до суда не дотянет.
Сукин хитро прищурился.
— Так ведь, Василий Васильич, содержим всех одинако…
— Содержим–то одинако, — задумчиво говорил Левашов, устроившись в кресле у камелька, — а люди–то все разные. Я же не говорю, генерал, что у вас за людьми уход плохой. Вот намедни был капитан Бестужев — свеж, хоть сейчас в Петергоф на гулянье, да и дерзит отменно — стало быть, здоров… Вы бы этого Кюхельбекера подкормили, Александр Яковлевич… Великий князь к нему всячески благоволит, — добавил он, понизив голос.
— Понятно, — без тени удивления отвечал Сукин.
— Помните, как мы на войне солдат лечили? Луку зеленого, да рюмку водки на ночь… может, и мясца свежего из комендантской кухни прислать…
— А у нас, Василий Васильевич, насчет мясца–то… Великий пост! — улыбнулся Сукин.
Левашов встал и аккуратно выбил трубку об стенку камина.
— Это у нас с вами, любезный, Великий пост, — сказал он сухо, — а в тюрьме да на войне поста не держат. К плавающим они и к путешествующим приравниваются…
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ, МАРТ
После достопамятного вечера, когда он вдруг услышал голос брата Миши и узнал, кто сидит с ним рядом, Николая Александровича не покидало хорошее настроение. Одиночество его кончилось! На следующий же день, часов эдак в шесть утра, он усышал стук с Мишиной стороны. «Та–та, та–та–та!» — негромко, но отчетливо стучал Миша. «Доброе утро», — пробормотал Николай Бестужев, взял оловянную ложку и тоже ритмически постучал в ответ. Обменяться приветствием с братом было приятно, но еще приятнее было бы обменяться с ним парой слов. Да только как? Мысль о том, чтобы составить азбуку, посредством которой возможно было бы общаться, немедленно пришла ему в голову. Однако что пользы в шифре, ежели нельзя передать собеседнику ключ? Подвергать опасности жизнь добрейшего Соколова, который бы уже, наверное, согласился передать записку, было нехорошо. «На что человеку голова? — бормотал Николай Александрович, расхаживая взад–вперед по камере, — думайте, капитан, думайте!»
Ключ к шифру, таким образом, должен был быть заведомо известен и Михаилу, и ему. Таковой константой являлась последовательность букв в русском алфавите. Ежели взять аз за один, буки за два, а веди за три, то уже можно передавать послания друг другу, но уж очень это громоздко! Букв в алфавите до сорока набирается, стало быть, на одно только мыслете придется стучать 13 раз!
Николай Александрович подсел к столу, взял перо и на припрятанном ранее клочке бумаги написал весь алфавит с нумерами, а потом безжалостно вычеркнул из него лишние буквы. Последним он выбросил ять. Следующим на выброс стояло ща, но он пока решил от него не избавляться. После подобной чистки осталось 28 букв. Все равно много! На то же самое неизбежное мыслете все равно уйдет 12 ударов. Думайте, капитан!
Бестужев перебрал в памяти все известные ему морские сигналы, в основном фонарные и флаговые — все они были рассчитаны на восприятие глазом, а не ухом. К тому же это был набор условленных сообщений, а не азбука. Что–то там, кажется, существовало у древних греков, когда они зажигали огни на горных вершинах и мигали ими, но Николай Александрович никак не мог припомнить принципа. Он встал из–за стола и снова принялся ходить, но вдруг остановился на полпути и хлопнул себя по лбу. Склянки! Двойной удар! Все было ясно как день — алфавит следовало поделить на группы, таким образом, каждой букве присваивается два нумера — нумер группы и нумер последовательности в группе. Эдак выходило попроще. Ближайший квадрат от двадцати восьми — 25. Пять групп по пять же букв!
Он снова бросился к столу. Бестужев не сомневался в том, что Миша идет по его пути — недаром он моряк и его любимый брат, следственно, голова его обязана работать похоже. Он сел на корточки за печкой — единственное место в камере, которое из коридора не просматривалось, и нацарапал угольком на стене квадрат с буквами. Пока он дорисовывал буквы, с Мишиной стороны раздался стук: раз, два, три, четыре — пять ударов. Потом, после длинной паузы, снова 5. Потом, помолчав, снова 5.
— Да я понял, понял, — бормотал Николай Александрович, — у меня тоже 5! — 3–2, — стучал он, — 2–4, 5–4, 1–1… Миша! Миша!
Миша с той стороны стены просто взорвался серией стуков.
— Я понял! — тарахтел он. — Как ты?
— Хорошо, — смеясь, выстукивал Николай.
— Здоров ли? — не унимался Миша.
— Да, да, да, — отвечал Николай — он был на верху блаженства. Конечно же выдуманный ими способ долог и неудобен — зато и времени у них было хоть отбавляй. К тому же он не сомневался в том, что за несколько дней они азбуку выучат назубок и начнут пользоваться ею быстро и вслепую. Он также успел отметить, что двадцатипятилетний Миша стучит не в пример ловчее его. Молодость, черт возьми! Ничего, нагоним!
Будучи ловчее, Миша, соответственно, был и болтливее. Николай Александрович выслушал все его приключения за прошедшие два с половиной месяца. Как выяснилось, первые две недели сидел он на хлебе и воде — и по сию пору — в цепях. Сие было наказанием за буйный темперамент Бестужева–младшего. Едва оказавшись в тюрьме, он бросился с кулаками на плац–майора, который сказал ему «ты».