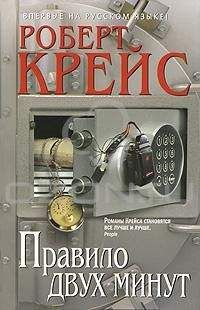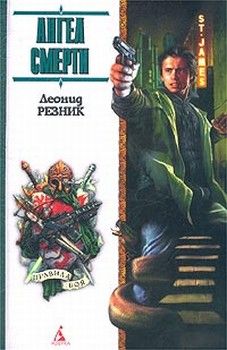Василий Ардаматский - Последний год
Постепенно на фронте борьбы против шпионажа создавалось трагикомическое положение. Если какой-нибудь тревожный сигнал поступал в военную контрразведку, там прежде всего искали не шпиона, а предлог перебросить сигнал в министерство внутренних дел, особенно если возникшее подозрение касалось какого-то хоть мало-мальски сановного лица. А там дело или сдавалось в архив или перебрасывалось в другую инстанцию. Военная разведка, к примеру, сигнал по Рубинштейну переадресовывает в комиссию генерала Батюшина, и тот отдает приказ об аресте. На другой день после ареста министр внутренних дел Протопопов звонит Батю-шину по телефону и предупреждает его, что дело Рубинштейна «беспокоит дамскую половину двора». Это для того, чтобы Батю-шин не торопился со следствием. Тем более что и сам Протопопов, как мы скоро узнаем, был возле последней рубинштейновской аферы. А спустя несколько дней приходит приказ из Ставки — Рубинштейна освободить… Это из показаний самого Протопопова следственной комиссии Временного правительства.
В конце 1916 года военный министр Шуваев вызвал к себе генерал-квартирмейстера Леонтьева, практически руководившего в генштабе контрразведкой, и спросил:
— Нет ли у нас в руках какого-нибудь дела, которое могло бы продемонстрировать нашу борьбу с вражескими агентами?
Леонтьев, не задумываясь, ответил то, что думал:
— Слава богу, нет…
Нет, нет, немецкие агенты могли действовать спокойно…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Французская контрразведка узнала в Париже, что готовится операция по перепродаже находившихся в Германии русских процентных бумаг и что в ней участвуют русские финансисты, в частности Рубинштейн. Она информировала об этом свое правительство, и вскоре в Петроград прибыла официальная записка, обращавшая внимание русского правительства на эту враждебную союзничеству операцию. Записка была направлена в министерство внутренних дел. Там каким-то образом она попала в руки работавшего в министерстве некоего Манасевича-Мануйло-ва, и в тот же день он пожаловал на квартиру Рубинштейна.
Они давно знали друг друга, не раз встречались у Распутина, но симпатий друг к другу не испытывали. Манасевич завидовал богатству Рубинштейна, а тот видел в нем нахального мелкого афериста, а значит, человека бездарного и ему бесполезного. Однако Рубинштейн знал, что Манасевич вертелся в высоких кругах, и иметь его врагом было нерасчетливо. Вот почему, когда Манасевич позвонил Рубинштейну и самоуверенно заявил, что он сейчас же едет к нему по крайне важному для него делу, не терпящему отлагательства, Рубинштейн не осадил его.
— У вас крайне важное дело? — спросил он подчеркнуто удивленно, но в тот же момент сообразил, что Манасевич без достаточного основания не позволил бы вести себя так, и сказал: — Приезжайте. Для вашего грандиозного дела у меня есть десять минут.
Когда лакей провел Манасевича в кабинет, Рубинштейн в ярко-красном шлафроке сидел в кресле с газетой в руках.
Рубинштейн не сразу опустил газету, и гость остановился посреди кабинета, невольно замечая его дорогую роскошь — и стены, обитые синим сафьяном, и резной стол с перламутровой инкрустацией, и огромный диван, кресла светло-желтой кожи, и разлапистую, в несколько аршин хрустальную люстру… Рубинштейн, подождав еще немного, опустил газету и уставился на гостя.
— Здравствуйте, Дмитрий Львович, здравствуйте, — сиплым простуженным голосом произнес Манасевич. Его худое с оттянутым вниз острым подбородком лицо было белым как бумага, а глаза блестели воспаленно и тревожно.
— Давайте ваше грандиозное дело, — насмешливо сказал Рубинштейн. — Садитесь…
Манасевич взял стул, поставил его близко к креслу, где сидел Рубинштейн, и сел, касаясь коленями Рубинштейна.
— Давайте, давайте ваше дело, — отодвинулся Рубинштейн. Манасевич наклонился и сказал тихо:
— Вам, Дмитрий Львович, грозит большая опасность. Рубинштейн широко улыбнулся:
— Она не грозит в наши дни только памятнику Петру Великому, и то еще как сказать.
— Дмитрий Львович, вас арестуют, — продолжал Манасевич.
— Слушайте, вы… я в эти детские игры не играю, у меня времени нет.
Манасевич замолчал, его воспаленные тревожные глаза метались из стороны в сторону, на белом худом лице проступили красные пятна.
— Из Парижа пришла бумага о вашей операции по перекупке замороженных в Германии русских процентных бумаг. Операция охарактеризована как враждебная делу союзников, — на одном дыхании сказал Манасевич и замолчал, глядя на Рубинштейна.
«Даже если это шантаж, — думал Рубинштейн, — одно то, что этот тип знает о сделке, крайне опасно…»
— Откуда вы это знаете? — спокойно спросил он.
— Эта бумага пока в моем сейфе, — ответил Манасевич. — Но еще сегодня я обязан ее передать.
— Кому?
— В соответствующую службу.
— Передавайте, — кивнул Рубинштейн.
— Вы надеетесь на свои связи? Это безнадежно, Дмитрий Львович, на бумаге есть резолюция министра начать следствие. Машина уже пущена в ход…
— Я не верю, — отрывисто произнес Рубинштейн.
— Чему не верите, Дмитрий Львович?
— Ничему. Все это чушь. — Рубинштейн взял газету и стал искать в ней место, где ему пришлось прервать чтение.
— Хорошо, я открою вам все мои карты. — Глаза Манасевича снова заметались из стороны в сторону. — Вы можете не верить, это ваше право, но в данном случае очень опасное для вас право. Итак, французская бумага пока у меня в сейфе и машина действительно пущена в ход. Остановить ее может только один человек — премьер-министр Штюрмер. Вы знаете, что я близок к этому человеку. Так вот, я на этом решил заработать. Говорю об этом прямо и открыто, тем более что вы тот человек, который сам никогда не упустил бы такого момента. — Манасевич криво улыбнулся дергающимися губами и продолжал — Но для того чтобы Штюрмер остановил машину, одной моей просьбы недостаточно. Старик, как вы знаете, любит деньги.
Рубинштейн веселыми глазами смотрел в развернутую газету.
— Значит, речь идет, Дмитрий Львович, о достаточно крупной сумме, — продолжал Манасевич. — В пределах, однако… миллиона. — Он прокашлялся. — И тогда я тот опаснейший документ отдам вам.
— Десять минут истекли, — невозмутимо сказал Рубинштейн и, отложив газету, встал. — Прошу извинить, у меня дела.
Манасевич удивленно смотрел на него.
— Прошу извинить, — улыбнулся Рубинштейн, — у меня дела.
Манасевич медленно поднялся:
Дмитрий Львович, вы совершаете непростительную ошибку.
— Не ошибаются только идиоты. Прощайте. — Рубинштейн позвонил в колокольчик и сказал вошедшему слуге — Проводите господина.
— Вы пожалеете, Дмитрий Львович, — сказал Манасевич, обернувшись на пороге…
Нельзя сказать, что Рубинштейн был в панике. Он верил в волшебную силу денег и своих связей, которые не раз его спасали. Так что не паника, нет, но тревога все же в его душу запала. Впервые в ситуацию вплеталась большая политика, а она, как правило, безликая. Ее делают, ею оперируют столько людей с высокими постами и званиями, что на них никаких денег не наберешься. И все же сейчас Рубинштейн думал об одном из этой безликой шайки — о министре внутренних дел Протопопове. С ним он хорошо знаком, однажды Распутин заставил их поцеловаться и поклясться быть «конями в одной упряжке». Не раз по совету Распутина Рубинштейн делал дорогие подарки Протопопову то ко дню ангела, то к пасхе, то к рождеству. Так что, если он на французском донесении написал резолюцию о расследовании, он же может эту резолюцию и перечеркнуть. Но беда в том, что человек он без хребта. Сегодня он может резолюцию перечеркнуть, а завтра написать еще более крутую. Тут нужно перестраховаться дополнительно… Вырубова! Вот на кого можно поставить. Тоже любит деньги, тоже не раз получала от него дары, она может с его делом запросто шагнуть в покои царицы и сказать: «Губят, матушка, хорошего человека и друга Григория». А тогда не будет страшна никакая резолюция…
Рубинштейн не знает, каким временем он располагает, чтобы успеть предотвратить беду. Так или иначе, действовать нужно безотлагательно, сейчас же. И прежде всего следует увидеться с организатором этой сделки — Крюге. Одна голова — хорошо, две — лучше.
Распорядившись слуге вызвать к подъезду автомобиль и подать одеться, Рубинштейн вскоре помчался на Васильевский остров, где на четырнадцатой линии в пятиэтажном новом доме жил Крюге. Он уже неделю не выходил из дому, лежал с тяжелой простудой.
Служанка, открывшая дверь, не хотела его впускать.
— Барин болен… барин болен… — твердила она с каким-то балтийским акцентом.
— Хуже будет, если помрет, — буркнул на ходу Рубинштейн и, сбросив пальто, устремился по коридору этой хорошо известной ему огромной, казенно обставленной квартиры, в которой его компаньон жил один.