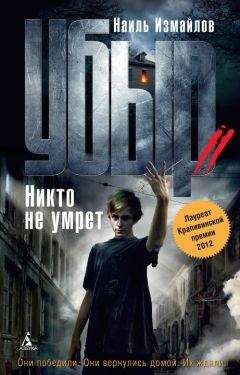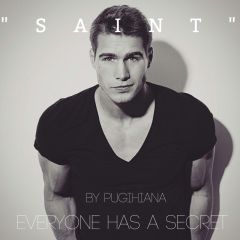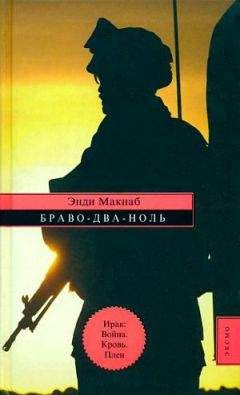Михаил Первухин - Пугачев-победитель.
Больше Минеев ничего не видел. На его голову обрушился страшный удар, сваливший его в снег. Несколько человек навалились на него. Во рту у него оказался тряпичный кляп, мешавший ему не только закричать, но даже громко застонать. Руки и ноги его были опутаны. Еще несколько мгновений, — и его поволокли, как тушу зарезанного кабана, по снегу все дальше и дальше от берлоги. Бывшие кругом него люди рассеялись. Хлопуша, все прикрывая лицо рукавицей, лениво пошел туда, где стоял «анпиратор», с острым любопытством наблюдавший за ходом борьбы Вавилы с медведем. Впрочем, эта борьба оказалась короткой: направленная умелой рукой Вавилы рогатина одним рожком добралась зверю до сердца, и медведица осела. Один из подручных Вавилы, зайдя сбоку, сильным ударом обуха добил издыхавшую медведицу. Выкатившийся снова пестун был застрелен Пугачевым, всадившим с него две пули. Двух визжавших и царапавшихся медвежат вытащили из берлоги и посадили в заранее припасенные мешки.
Охота была окончена, и охотники направились в обратный путь.
Добравшись до саней, Пугачев осведомился:
— А где енарал Минеев?
— У енарала голова чтой-то разболелась, — отозвался Юшка Голобородько. — Ушел еще до того, как Вавилка стал зверя на рогатину сажать! Надоть полагать, домой уехал, полежать...
Пугачев, довольный удачной охотой, удовлетворился ответом и стал усаживаться в сани. Вдруг его мутные глаза налились испугом, и обрюзглое лицо побледнело.
— Свят… свят... свят! — забормотал он. — Аминь, аминь, рассыпься! Уйди! Уйди, мертвец!
В нескольких шагах от него стоял молодой князь Семен Мышкин-Мышецкий.
Растерявшийся Юшка засуетился, заахал:
— Что ты, что ты, осударь? Что тебе попритчилось?
— Зарезанный! Мертвяк из могилы! — бормотал Пугачев, пытаясь сотворить трясущейся рукой крестное знамение.
— Да это де князек Мышкин! Сенька Мышкин-Мышецкий, осударь! Какой там еще «мертвяк»?
Испуг Пугачева так же быстро прошел, как и накатился. Но осталась слабость, налившая все его грузное тело свинцовой тяжестью.
— Тьфу! И впрямь, с чего это я? Сенька Мышкин-Мышецкий? А мне и бог знает что показалось... Одного паренька вспомнил... Тьфу...
Пугачев выдавил из себя хриплый смешок, ввалился в сани и крикнул:
— Валяй по всем по трем! Гони! Надоело!
Кони потащили, утопая почти по грудь в снегу.
Добравшись до Охотничьего дворца, «анпиратор» узнал, что и Хлопуши, и Прокопия Глобородьки, и Минеева нет. Сначала растревожился, но вышла из своей горенки смуглая Танюшка, заулыбалась, лаская «белого царя» многообещающими взорами, и Пугачев успокоился.
Обедать за общим столом он не пожелал: питье и явства были принесены в спальню и туда же был позван бог весть откуда добытый услужливым Питиримом слепой «дид-кобзарь», сивоусый украинец. «анпиратор» принялся трапезовать, угощая и Танюшку, под заунывные и скрипучие звуки кобзы.
Пока он трапезовал, в лесной глуши в одной из сторожек для Минеева пришел последний час. Верные Хлопуше варнаки, без шума завладевшие Минеевым, дотащили «генерал-аншефа» и кремлевского коменданта до занесенной снегом избушки, содрали с него соболью шубу, мундир, кольчугу, даже рубашку и сняли набитый драгоценными камнями замшевый пояс. Хлопуша и Прокопий с холодным любопытством глядели на это, сидя на лавках. Теперь Минеев лежал, почти совсем обнаженный, на мерзлом земляном полу. Руки и ноги его были стянуты кожаными сыромятными ремешками. Во рту торчал тряпичный кляп.
— Набил поясок камешками цветными туго! — хихикал Прокопий. — Не иначе серым зайчишкой за рубеж перескочить собирался, баринок белотелый. А мы его, зайца лопоухого, как шапочкой и накрыли!
По знаку Хлопуши один из варнаков вытащил кляп у Минеева изо рта. Минеев застонал.
— Душегубы! — прохрипел он. — За что? Что я вам сделал?
Хлопуша, осклабившись, ответил
— Ваше присходительство, господин комендант! Зачем такие слова кислые? Нюжли мы с Прокошкой, твои друга верные, в душегубах ходим?!
— За что вы меня? Чем я вам помешал? — хрипел Минеев. — Ну, возьмите все мое добро, пользуйтесь, отпустите только душу на покаяние!
— Ах, сколь велика твоя доброта! — захихикал Прокопий, хлопая себя по бокам, словно от восхищения. — Слышь, Хлопка, то есть, сиятельный грахв? Подарил он нам все камешки эти... Берите, мол, пользуйтесь!
— Отпустите, я никому словом не обмолвлюсь! — стонал Минеев.
— Да ты и так, друг ты мой любезный, не обмолвишься, и без обещаний, — равнодушно отозвался Хлопуша. — А что касаемо твово вопросу: за что, мол, и все протчее, ну, так я тебе скажу напрямик: стал ты у нас под ногами путаться. Куда ни сунешься, на тебя наступишь. Надоело... Опять же, баринок ты. Дворянская косточка... Ишь, пузо какое отрастил...
Минеев застонал. По багровым с натуги щекам катились крупные слезы.
— Опять же, — продолжал Хлопуша, — вишь, тебе, барин, легулярная армия понадобилась. Ну, а мы тоже не дураки. Мы, брат, отлично понимаем, что к чему!
— Кабы была легулярная, то есть, армия, — пояснил Прокопий, — нам с самим вовсе бы и сладу не было. А нам это не столь удобно... Понял, енарал казанской?
Не удержался и пнул лежавшего Минеева в живот ногой.
— Кончайте что ли, ребята, — вымолвил Хлопуша. — Ты, Савка, что ли! У тебя пальцы здоровые...
Рослый варнак с изрытым оспой лицом присел возле Минеева на корточки, несколько мгновений смотрел ему в помутившиеся от ужаса глаза, потом выкинул вперед поросшие рыжими волосами руки с похожими на обрубки пальцами и сжал, как клещами, горло Минеева.
— Х-ха-а-х-харр! — захрипел Минеев.
— Нажми! Нажми! — извиваясь ужом, визжал Прокопий.
— Сейчас! Кончал базар! — отозвался рыжий Савка, нажимая.
Час спустя, поделивши по-братски богатство Минеева, неудачливого основателя регулярной армии нового «анпиратора», Хлопуша и Прокопий возвратились в Охотничий дворец. Пугачев почивал в своей спальне. Хлопуша и Прокопий, как ни в чем не бывало, уселись обедать. Но едва они успели насытиться, как поднялась суматоха и послышались тревожные крики: из Москвы прискакал, загнав по дороге нескольких коней, гонец от князя Мышкина-Мышецкого с известием, что в столице бунт.
— Какой бунт? Из чего бунт? Кто бунтует? — засыпал конца-казака вопросами Хлопуша.
— Вся Москва поднялась. Башкиров да татарченков бьют! Полыхает Москва!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Пока Прокопий, Юшка, Творогов и Хлопуша совещались, прискакал и второй гонец, а за ним и третий. Привезенные ими депеши от Мышкина-Мышецкого в общем подтверждали первое сообщение: в Москве бунт, москвичи избивают башкир и татар. В нескольких частях города пожар. В третьей депеше, писаной, видимо, наспех, на первом попавшемся листке бумаги, было упомянуто, что на гарнизон полагаться нельзя, ибо высланные против бунтующих солдаты явно сочувствуют толпе и даже помогают ей расправляться с «татарчуками».
«Кремль в безопасности, но только покуда. Поручиться за дальнейшее нельзя! — писал канцлер. — Требуется немедленное присутствие государя. Много повредило делу безумное кощунство «духомола» Терентия Рыжих против Иверской Божьей Матери. Терентий растерзан толпою там же, у часовни, но несметные толпы окружают Кремль, требуя выдачи сообщников Терентия, будто бы из яицких казаков...»
На этом письмо обрывалось.
Всполошившийся Прокопий Голобородько потащил за собой в спальню «анпиратора» Творогова и Хлопушу. Пугачев, пьяный и утомленный ласками Танюшки, крепко спал, обнимая смуглую красавицу.
— Государь! Проснись-ка! — прогундосил Хлопуша, стоя у двери.
— Иваныч! — визгливо вскрикнул потерявший голову Прокопий. — Вставай! Не время спать-то!
Пугачев зашевелился, раскрыл глаза и посмотрел на вошедших мутным, бессмысленным взором.
— Да вставай, Иваныч, тебе говорят! — теребил его Прокопий за плечо. — Слышь ты? В Москве бунт! Наших бьют!
Словно пружина подкинула Пугачева. Он вскочил и спустил голые волосатые ноги на лежащую у кровати шкуру медведя.
— Ась? Кого бьют? Кто бьет? За что? — забормотал он. — Енаралы, что ли, подступили? Аль поляки?
— Москвичи, Иваныч! Москва поднялась! Режут!
Тут только он спохватился, что трижды назвал «анпиратора» Иванычем, как звал раньше, задолго до принятия Пугачевым имени «Петра Федоровича». И вспомнил, как после взятия Казани тот же «Петр Федорович» однажды за «Иваныча» чуть не зарезал Юшку.
Охвативший Прокопия страх передался и самому «анпиратору». Он заметался, бормоча:
— Бежать надоть! Кони готовы? Скорей! Хлопка! А игде енарал Минеев?
— На какого шута Минеев тебе еще понадобился? — глухим голосом отозвался Хлопуша. — Нету его!
— Как нету? — изумился и испугался «анпиратор».
— Помер он! Скоропостижно помер Минеев-енарал! — зачастил Прокопий.
Пугачев обвел обоих полным злою тревогой взором. Увидел на лице Юшки растерянное и вместе мстительное выражение. Мгновенно сообразил.