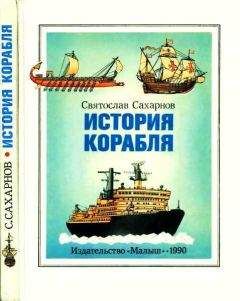Айбек - Священная кровь
— Да… Жизнь моя и без того была отравлена. Теперь избавлюсь… Он в тюрьме… Я умираю… не пришлось увидеть… Так и осталось неисполненным мое желание. Айи… Прощайте, айи…
Гульнар затихла.
Гульсум-биби вдруг вспомнила об одном средстве: когда-то она слышала, что от яда помогает овечий помет. Его надо истолочь, развести в воде и поить больную, процедив через тряпку. Она не сбежала, а скатилась по лестнице во двор. Прихрамывая, побежала к хлеву. Набрала в темноте горсть помета, высыпала в чашку с водой и, на бегу разминая его, бросилась наверх.
У изголовья больной с чашкой воды в руке стояла растерянная Турсуной. Старуха метнулась к постели и вскрикнула: в полуоткрытых глазах Гульнар уже погасла жизнь. Гульсум прижала к груди дочери сморщенную, худую руку. Потом отшатнулась и, подкошенная, свалилась на пол. Вопль ее потряс тишину ночи…
IVНа седьмой день, как положено обычаем, по Гульнар справили поминки. Наутро Ярмат и Гульсум сходили на могилу дочери. Передав могильщику плов, лепешки и деньги на свечи, они прошли к свежему холмику, насыпанному под большим тутовым деревом на краю кладбища. Обнимая могилу и прижимаясь к земле мокрыми щеками, они долго плакали. Наконец, обессилевшие от слез, возвратились под навес.
Было решено, что Гульсум-биби уедет к себе на родину. Получилось это неожиданно. К ним случайно зашел самаркандский родственник, сын старшей сестры Гульсум. Простой кишлачный парень этот высказал им искреннее участие и нашел, что сейчас самое лучшее — это отправить убитую горем тетушку к его матери. Гульсум была против отъезда. Она говорила, что сначала проведет все положенные обряды, а потом готова отправиться хоть в могилу. Но, в конце концов уступив настояниям мужа, вынуждена была согласиться.
Ярмат пересчитал деньги, которые по копейке, по пятаку в течение десятка лет собирал «про черный день». Оказалось около ста сорока рублей. Деньги он вручил племяннику на расходы.
К хозяевам Ярмат не пошел. В эти дни он не мог и не желал никого из них видеть. Он вообще стал неузнаваем. Рачительный слуга и преданный раб Мирзы-Каримбая, верно служивший ему почти двадцать лет, теперь он ни за что не хотел браться. Целые дни проводил в угрюмом молчании где-нибудь в дальнем углу двора или у себя под навесом, словно вынашивал какую-то тяжелую думу.
В доме бая к смерти Гульнар отнеслись холодно. Все решительно отвергали возможность злого умысла, ссылаясь на волю судьбы. Однажды Мирза-Каримбай сам заговорил об этом с Ярматом. Пришел под навес и сказал, словно о чем-то предупреждая:
— Гульнар умерла своей смертью. А со смерти какой может быть спрос? Я сам очень горюю. Но подозревать здесь что-либо нечистое — нехорошо. За это и ответить можно.
Ярмат промолчал, но так взглянул на хозяина, что тот невольно попятился.
После отъезда Гульсум-биби Ярмат почувствовал себя еще более одиноким и несчастным. Терзаясь горем и раскаянием, он как безумный целыми днями бродил по тем местам, где в рабском труде поседела его голова, где он закопал в землю не только лучшие годы своей жизни, но и единственную дочь.
Как-то вечером он зашел на байский двор. У больших ворот стоял запряженный фаэтон. На козлах, в ожидании кого-то из хозяев, неподвижно застыл недавно нанятый кучер Игамберды. Ярмат спросил:
— Куда собрался?
— Салим-ака в Скобелев[99], кажется, уезжает. Надо отвезти на вокзал.
Ярмат посмотрел на кучера, на мягкое сиденье фаэтона, помолчал минуту, как бы раздумывая над чем-то, и неожиданно предложил:
— Ты займись чем-нибудь другим. Я сам отвезу. Кстати, и дело у меня есть на вокзале.
Старик уселся на место кучера.
Немного погодя с чемоданом в руке из ичкари вышел Салим. Прежде чем сесть в фаэтон, байбача закурил и при свете спички увидел Ярмата.
— А, старина! Не утерпел, самому захотелось проводить? — заговорил он, явно заискивая. — Вам бы надо еще на покое побыть — трудно перенести такое горе… Ну ладно, раз решили, погоняйте быстрей, опоздать могу.
Колеса неслышно катили по мягкой пыли дороги. Салим-байбача был в хорошем настроении, говорил без умолку. Он рассказал, что пробудет в Скобелеве недели две, потом поедет в Петербург, а после окончания войны обязательно отправится путешествовать за границу. Он расчувствовался, даже посоветовал Ярмату написать письмо Гульсум-биби в Самарканд, чтобы она не задерживалась там и возвращалась поскорее.
Ярмат молчал. Возле глубокого обрывистого оврага, подходившего почти к самой дороге, он неожиданно остановил лошадь.
— Потерялось что-нибудь? — спросил Салим-байбача.
Ярмат не ответил. Он соскочил с козел, нагнулся, будто искал что на дороге, и когда приблизился к Салиму, прохрипел страшным, чужим голосом:
— Ты, видно, меня старым ишаком считаешь, сын собаки? Если смел, покажи свою силу. Вот тебе! — Он с размаху ударил Салима ножом в грудь и снова прохрипел: — Ты отравил мне сердце, а я твое искромсаю!
Острый нож еще раз по рукоятку вошел в грудь Салима. Байбача сгорбился и застыл без движения. Конь, почуяв кровь, беспокойно захрапел.
Ярмат вытащил нож, далеко отшвырнул его. Неторопливо, с ужасающим хладнокровием стащил за ноги труп байбачи с коляски, подволок к краю оврага и сбросил с кручи. Тяжело вздохнув после этого, он подошел к коню, отвел его с дороги, привязал к одинокому дереву. Потом опустился на корточки, обтер пылью окровавленные руки, поднялся, погладил коня, нетерпеливо грызшего удила, и зашагал в темноту.
Он шел без дороги, как безумный шептал:
— Что я сделал? Преступление это или справедливая кара? Борода уже поседела, а я руку в крови обагрил. Вот она, все еще липнет на пальцах… Нет, я у дочери спрошу. Скажи мне, родная, скажи, Гульнар моя! Я ведь только перед тобой виноват, и давно виноват. Скажи: правильно я поступил? Если этой крови мало, еще пролью! Эта кровь — только первая капля. Кровь всей семьи этих извергов, кровь тысячи таких, как они, не стоит и одного твоего волоска! Знаю это, знаю, доченька, и всех их уничтожу! Отец твой теперь не боится. Они теперь уже не хозяева мне. Хватит, поездили на моей спине. Теперь — довольно! Глаза мои открылись, Гульнар. Только очень поздно открылись они, ослепнуть им, — когда сердце мое уже отравлено ядом. А ты была моим сердцем, Гульнар. Раньше бы открыться им, глазам моим, тогда бы я не отдал тебя, мое сердце, на растерзание волкам!.. Как же я предстану перед тобой, когда аллах позовет нас при кончине мира? Доченька, прости! Прости твоего заблудшего слепого отца! Я кровью запятнал руки, чтоб ты простила меня… Беленькая моя, Гульнар моя, прости… О горе мне, горе!.. Бедная дочь… Проклятая жизнь!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
На рассвете Юлчи вышел из темной, заброшенной мельницы. Он был очень голоден. Но первой его заботой было — где снять отросшую в тюрьме бороду и побрить голову? В кармане нет даже стертого медяка. Он примостился на вросшем в землю старом жернове и долго ломал голову… Продать — нечего. Сапоги пропали в тюрьме. Рваный халат? Но кто возьмет его? Разве только старьевщик на базаре! Да если бы и удалось продать, то в чем он останется? В одной рваной рубахе?..
«Э, нашел о чем горевать!» — махнул рукой Юлчи. Но тут же снова задумался, вспомнив о том удивительном русском, с которым вместе сидели и вместе бежали из тюрьмы.
«Где он теперь? Удалось бы ему благополучно добраться до Москвы. Я и не спросил, за сколько дней поезд до Москвы доходит… В товарном вагоне, говорит, поеду… Нет, он не пропадет. Голова у него на месте. Он из таких, что в мельницу под жернова угодит — все равно невредимым выйдет… Только с харчами, пожалуй, трудно будет — у него тоже ни гроша».
В памяти Юлчи встало все, что связано было с его новым другом, начиная с первой встречи в тюрьме.
Через три-четыре дня после ареста Юлчи в камеру к нему ввели какого-то русского. Истомившийся в одиночестве, джигит встретил его открытой дружеской улыбкой.
«Вот бы знать язык, побеседовать!» — промелькнула у него мысль.
Русский понравился Юлчи с первого взгляда. Это был среднего роста человек, широкоплечий, с сильными руками, лет тридцати пяти — сорока. Из-под его потрепанной фуражки выбивались завитки густых темно-русых волос. Во взгляде, в спокойных, медлительных движениях чувствовались сила и уверенность.
Русский бросил на край нар небольшой сверток в старом одеяле и внимательно оглядел Юлчи с ног до головы.
— Яхши! — проговорил он густым басом. Потом подложил под голову сверток, прилег на нары и долго лежал, думая о чем-то своем. Время от времени он бросал на Юлчи осторожные, только уголками глаз, взгляды.
Юлчи тоже присматривался к своему соседу. Особенно удивило джигита невозмутимое, даже какое-то насмешливое спокойствие этого человека: русский не проявлял ни страха, ни смущения: он вошел в камеру и расположился на нарах с таким видом, точно по пути завернул в чайхану на перекрестке и прилег отдохнуть на широкой дощатой супе.

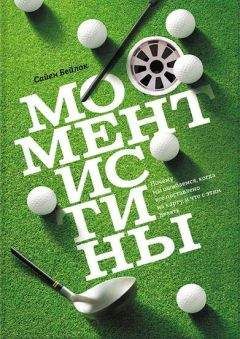
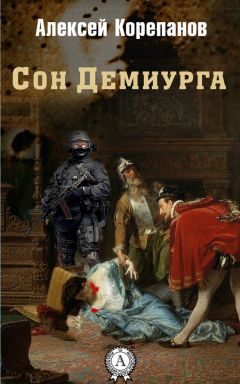
![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)