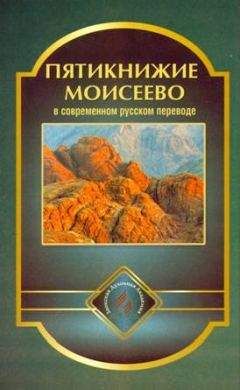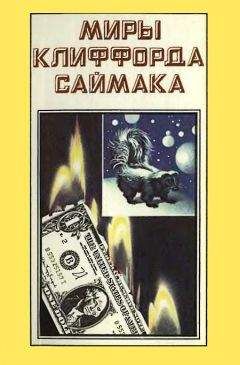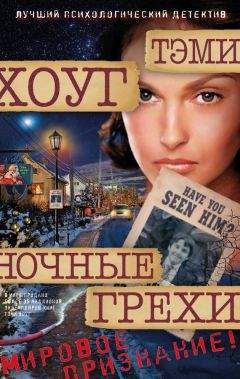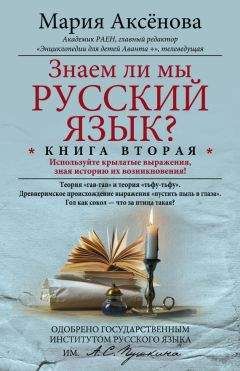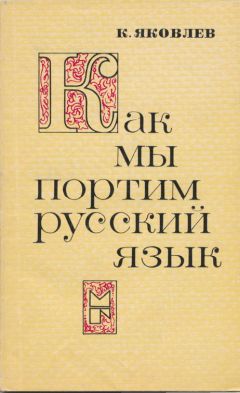Мария Правда - Площадь отсчета
Брак ее с Сергеем Петровичем был бездетен, и при этом по взаимной любви исключителен. Каждый день на протяжении этих пяти лет они сами удивлялись подобной редкостности собственных отношений, и в этих обсуждениях сами обратили их в легенду. «Никто не живет так, как мы, — говорили они между собою, — сам Бог послал нас друг другу!» Поэтому, как бы ни оборачивалась всевозможными событиями их жизнь, они боялись допустить хоть крупицу раздражения друг на друга — однажды высказанное недовольство разрушило бы столь трепетно созданный ими идеальный брак. Когда стало понятно, что она не беременеет, начались хождения по врачам и поездки на воды. Именно тогда, несколько лет назад, Сергей Петрович начал внушать ей, что так Господь, в неизреченной своей мудрости, печется о том, что они должны жить друг для друга. В глубине души она понимала, что Сергей Петрович детей не хочет. Его эгоистическая натура сопротивлялась мысли о том, что на его место в сердце жены будет претендовать кто–то другой. Сама Каташа тоже не совсем понимала, хочет ли она детей. Все это было так непонятно, и ее вовсе не занимали разговоры подруг, которые вечно рожали, кормили, дурнели и дрожали над своими младенцами. Когда Сергея арестовали, в ту самую ночь, когда были они вместе в последний раз, ей пришла фантазия, что это наконец произошло. Целые две недели она ходила как в тумане и прислушивалась к себе. Ее даже тошнило по утрам. Она уже со слезами на глазах рисовала себе картины своей будущей жизни — одной, с младенцем, и как это будет горько и одиноко, а при этом сладко и радостно, что не поверила, когда природа дала ей понять, что чуда не будет. Самое странное, что, хотя Каташа и говорила себе, что желает ребенка более всего на свете, она испытала огромное облегчение, когда поняла, что не беременна. «Может быть, я плохая женщина и вовсе недостойна быть матерью?» — спрашивала себя она. Ей было уже 26 лет, и у многих подруг были не только первые, но и четвертые дети. Они с высоты своего опыта разговаривали с нею покровительственно. «Только ставши матерью, можно понять…» — начинали они, а ей хотелось заткнуть уши, так это было утомительно. Старшие родственницы замучили ее одними и теми же расспросами. Когда?
Только Сергей поддерживал ее. «Не кажется ли тебе, мой ангел, что подруги и сестры лишь завидуют нашей свободе?» — говорил он. Он действительно видел в ней друга, которого бы отняло у него крикливое существо в распашонках и свивальниках, сколько бы нянек и мамок над ним ни суетилось.
Она привыкла жить для Сергея — читать все новые книги, чтобы обсудить их с ним, заниматься музыкой и пением, чтобы услаждать его слух, делать себе модные прически, чтобы он восхищался ею. И он неизменно восхищался. Сама Каташа очень знала, что некрасива. Всегда, с раннего отрочества, была она полновата, волосы и глаза никакие, а главное, что она особенно не любила в собственной внешности, — этот ужасный толстый матушкин нос, краса и гордость всех Козицких. Так что, хотя и родилась она графиней Лаваль, а зеркало не обманешь: лишь манеры да туалет отличали ее от самой обыкновенной русской крестьянки–лапотницы. «Ты знаешь, друг милый, что для меня краше тебя нет никого на белом свете, — ровным спокойным голосом говаривал Сергей Петрович, когда она вечером, сидя перед своим роскошным туалетным столиком, жаловалась ему на то, что нехороша нынче. Она причесывалась на ночь английской серебряной щеткой, Сергей Петрович в длинном бархатном халате с кистями сидел рядом, в своих любимых креслах, заложив длинным пальцем место в томике Монтескье, она в зеркале видела, как улыбались его миндалевидные темные глаза.
Нежарко, несмотря на молодой еще возраст, было меж ними супружество. Это Каташе нравилось более всего — не глупые вспышки неприличной страсти, о которых она от подруг слыхивала, а ровный, ясный свет постоянно горящей лампады взаимной приязни и уважения освещал их брачное ложе. Плотская любовь, о которой так спокойно говорили древние греки и которую так вычурно обходили современые немецкие романы, не приносила ей ни малейшей радости и вовсе оскорбляла бы своей грубой телесностью, ежели бы не непревзойденная деликатность Сергея Петровича. Он и не беспокоил Каташу понапрасну. На втором или на третьем году супружества, когда родители забили тревогу по поводу их бездетности, очередной немецкий доктор составил ей реестрик, каких дней не пропускать. Каташа, краснея, передала листок Сергею Петровичу, и с тех пор вопрос о продолжении рода был полностью в его ведении. И только тогда, в ту страшную ночь на 15‑е декабря, когда на нижнем этаже их особняка лопнуло стекло от первого же картечного залпа и когда они поехали ночевать к сестре, в дом австрийского посланника, тогда все вышло не так, как всегда. Именно поэтому она была почти уверена, что забеременела. Как непостижимо он был нежен! Значит, понимал, что расстаются они надолго, если не навечно. Бедный, бедный Серж! И утром эта записка: «Государь стоит рядом и говорит, что я жив и здоров». И сверху перед «жив» вписано: «буду». Жив и здоров БУДУ. Это несомненно означало, что государь обещал Сергею Петровичу жизнь. Впрочем, в семье так думала одна только Каташа. Папенька, граф Лаваль, за долгие годы своего камергерства вхожий во дворец, как в дом родной, принес известия и вовсе неутешительные. Императрица–мать, у которой он ранее был в чести, говорила с ним холодно. Сергей Петрович был бунтовщик из самых отъявленных, и его не собирались прощать. Каташа порывалась ехать сама, бросаться в ноги. Папенька отговорил покамест. Средство было крайнее, и его надо было придержать, пока обстоятельства участия Сергей Петровича в мятеже не станут яснее. А куда ж яснее — государыня сказала папеньке, что Серж был у мятежников диктатор. Каташа уже поняла, что в ноги бросаться надо будет не ей, и даже не добрейшей Александре Федоровне, а самому… Это было в тысячу раз страшнее, но и настолько же действеннее. Родители даже не рассматривали подобной возможности, тем не менее Каташа хорошо понимала, что сам Николай Павлович — это ее последняя и единственная надежда. Дело в том, что она когда–то уже беседовала с Николаем Павловичем.
Это был очередной бал у них в доме. Каташа была еще не замужем, Великий князь, по–холостяцки, явился с Михаилом Павловичем и с целым роем прекрасно танцующих адъютантов — затем их и звали. Бал был великолепен. Стояла зима, но в огромной, с колоннами, парадной зале было душно от испарений, исходящих от бесчисленного множества оранжерейных растений. Цветы и свечи отражались в огромных золоченых зеркалах, хрустальные люстры в вышине бросали на стены и мраморные полы тысячи мелких радуг.
— Ваш дом прекрасен, графиня, — восхищались Великие князья, — забываешь о том, что ты на севере — Ривьера!
Дорого стала папеньке сия Ривьера! Граф Лаваль не жалел ничего, создавая среди заснеженного Петербурга волшебное царство цветов и пальм. Желтые ананасы громоздились на драгоценных блюдах. К столу были поданы осетры, которых по четверо лакеев в расшитых золотом ливреях вносили на носилках под музыку, словно на военных похоронах. В центре залы бил фонтан, изливаясь из высеченной изо льда пасти грифона, у прозрачных его лап в ледяной крошке стыли бутылки, украшенные хвостатыми кометами, — славный урожай 11‑го года…
— Не кокетничай с Великим князем, — сердился отец, — он не может жениться на русской подданной!
Да кто ж тогда думал о женитьбе! Великий князь был отлично любезен, был он тогда очень хорош собой, только, может быть, чересчур худой для своего роста — его талия, туго обтянутая полковничьим мундиром, была тоненькая, как у девушки, мягкие русые кудри, которых тогда было много, великолепно оттеняли его мраморно–белый высокий лоб. «Это самый красивый молодой человек в Европе», — уверенно сказала сестра. Она тогда только вышла за австрийского посланника и знала все о Европе. Николай Павлович, вокруг которого вились все красавицы Петербурга, смотрел только на Каташу. На третьей кадрили Каташа подумала, что никогда не видела у мужчины таких красивых глаз. При этом разговор их касался самых серьезных тем. Каташа, которая была замечательно образованна и привыкла удивлять кавалеров глубиной своих познаний, начала с античной поэзии, бывшей ее коньком, но была сама удивлена реакцией Николая Павловича. Вместо того чтобы делать вид, что ему безмерно интересен этот разговор, как сделал бы любой кавалер на его месте, он сразу раскрыл карты.
— Я в этом не сведущ, графиня, — улыбнулся он, — мы с Мишелем не потрудились изучить древних авторов. Поговорим о современности!
Его откровенность была свежа. Николай Павлович в отличие от всех молодых людей на этом балу не ставил себе целью увлечь Каташу. Это было увлекательно само по себе. Они много говорили о политике, о французской революции, от ужасов которой бежал когда–то граф Лаваль, о прошедшей войне, о будущности Священного союза. Они так увлеклись разговором, что маменька, вставши сбоку, чтобы он не видел, делала Каташе знаки глазами и веером. Знаки были понятны. Лавали издерживались на балы, дабы привлечь в свой дом, которому более подходило имя дворца, лучших женихов России. Великие князья в России не были женихами, в то время как самая захудалая немецкая принцесса, в сотни раз беднее и глупее Каташи, могла составить им пару…