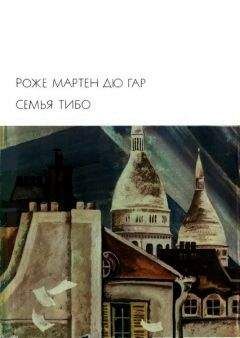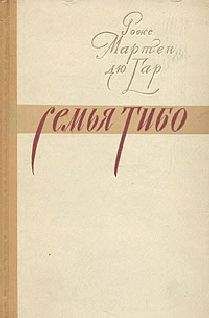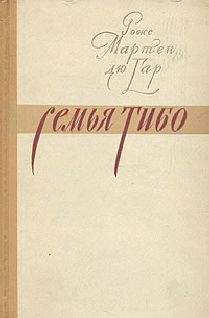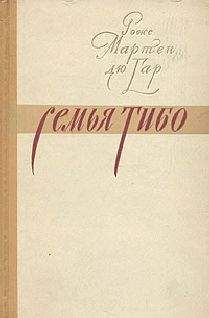Наталья Суханова - Трансфинит. Человек трансфинитный
Ну а любовь при чем? Да вроде бы и не при чем. я как-то даже и не понял сначала, зачем мой приятель ведет меня за кулисы. а поняв, рассердился, и еще больше рассердился, обнаружив пошлую женскую кокетливость певицы, хотя в другом случае кокетливость меня ничуть бы не рассердила, тем более слегка обращенная на меня. Она мне жутко не понравилась за кулисами: по несовместимости с ее голосом, с тем, что и как она пела. я даже какую-то грубость в этом смысле сказал. Но так уж случилось, мое наглое замечание не только не рассердило ее — наоборот развеселило, даже польстило и обратило ее нестандартное внимание на меня.
А потом... Потом последовательности уже и не упомнить.
Крутанула она меня. Света божьего не взвидел. Она заставила меня предать ее голос, она заставила меня понять, что ее голос не имеет ничего общего даже с горлом ее, даже с душой — ее голос был как другая душа, даже не всегда и рождающаяся. «Где вас двое, — я третий меж вами», — сказал Христос. Третьим меж нами был ее голос. Скрутило меня. Как обдавало жаром и дрожью, как знобило, восторгало и мучило. Иногда, именно когда она пела, я чувствовал себя свободным от нее — такой вот миг божественной свободы. и в эти минуты я ее любил так бескорыстно и чисто. а потом опять вечная ненасытность и рождаемая ею подозрительность. Божественность, страсть — все это растащено по сторонам и рвет тебя на куски. Дурная молодость.
Ей тоже, наверное, было трудно со мной. Не так уж легка была ее жизнь, чтобы еще мои выбрыки терпеть. К тому же полячка, черт ее дери, — нетерпелива, вскидлива, горда, заносчива.
В общем-то я сам, конечно, подставился. Я, кажется, решил, что теперь, когда знаю, чем может быть женщина, когда узнал «три карты» — уже любую встречную смогу тронуть волшебной палочкой, вульгарный материалист. Ну и дурная ревность, и самолюбие, и воспаленная чувственность. я завел интрижку рядом с нею же — и все, «за мной, мальчик, не гонись». и при этом полное ком-иль-фо: «О, нет, никаких обид, все совершенно естественно, вы очень молоды и, конечно, заглядываетесь на сверстниц, мне же приходит пора успокоиться и найти человека, с которым можно связать себя на всю оставшуюся жизнь». Черта с два, на всю оставшуюся жизнь. Не прошло и нескольких лет, как она бросила дорогого друга и куда-то уехала, навсегда оставшись для меня той третьей картой в раскладе Пиковой дамы, которая делает неповторимым, невоспроизводимым единственный выигрыш.
;;
Но не о том сейчас речь. Речь о той полноте жизни, которая в какой-то момент — это было еще до всяческих осложнений и разрыва с Еленой — становится предельной. и в этот-то момент посетил меня в Москве мой батя — с арбузом.
А за пять лет до того выгнал меня отец из дому. Да как! Куда и соскочила его благопристойность и мягкая интеллигентность!
Ну да, в молодости его были фортеля. Но потом... Впрочем, не завираюсь ли я? Не заносило ли его изредка и в более ровное время, в зрелые лета? Заносило, заносило-таки и подчас далековато от средней, так сказать, коллективной линии. в девятьсот пятом году, будучи организатором общественного клуба интеллигентов, затеял отец благотворительный, в пользу нужд просвещения, новогодний бал. а тут девятое января. Демократическая интеллигенция потребовала бал отменить. Отец отказался.
Ночью в нашей квартире выбили окна. Зато в восемнадцатом, когда интеллигенция, эсеровская по своим симпатиям, саботировала большевиков, отец от саботажа отказался: его, дескать, не интересует, какая власть, он просвещенец, его дело — двигать культуру. Вся интеллигенция города поднялась против него.
Но вот в ответ на белый террор поднимается красный террор, отец клеймит «кровавых большевиков» и требует, чтобы я порвал с ними. Я — на дыбы. и сторонник чистого просвещения закатывает мне оплеуху. Это была отнюдь не аристократическая пощечина — впрочем, не знаю, так ли уж аристократичны были аристократы, история полна диких выходок аристократов. Это была вообще не пощечина — наш просвещенец с искаженным от ярости лицом бросился на меня с кулаками, и опять не с английским боксом, а с кулаками уличного бандита. Никогда не тронувший меня в детстве, не раз даже маме выговаривавший за какой-нибудь невинный ее шлепок по детской попке, — он заезжает мне по морде пудовым, совсем уж не интеллигентным кулаком, так что я, мгновенно окрапленный моей яркой революционной кровью, лечу в угол и тут же, заорав, бросаюсь на него. Мать растолкала, растащила нас, прикладывала к моей сильно подпорченной физиономии мокрые тряпки, которые я тут же срывал, швыряя в отца под его дикий ор: «Вон! Вон! Чтобы ни ногой! Отныне! Никогда! Во-он!»
Что? я похож на отца? Да нет все-таки. То, что у него было эпизодами, у меня шло сплошь, не оставило и по се. Взять хотя бы историю с моей Марысей. Слышишь, Марыся, — я о нас. Чем не гимназистка, соблазненная преподавателем? Так Марыся мне не только в дочки — во внучки годилась, и я был стар и кривобок. Но это еще впереди.
Да, благородный отец проклял своего отпрыска, отрекся от меня и велел не показываться на глаза.
Однако через какое-то время сам пришел ко мне. в большом селе Котлы выявилась такая история в больнице: не те диагнозы, которые следовало, ставились — это уже красные были у власти, — документы кое-какие выправляли для бандитов, лечили их. Взяли врача, медфельдшера, медсестер. и дело — мне. Укрывательство, обман — все понятно. Время жесткое, бескомпромиссное. а этот самый врач — давнишний знакомый моего отца, Шабелич. И, значит, отец, невзирая на полный наш разрыв, всячески сближается со мной и просит задержанных пощадить. Для врача, мол, нет ни своих, ни чужих, дело медиков — спасать, Красный крест, и прочая, и прочая. Всячески умоляет. Я — человек маленький, но на тройке докладываю я. Указываю смягчающие обстоятельства: халатность, незнание. и врач, а с ним и другие получают условно. Вот так вот. Революционную мою совесть щиплет, но помиловать, что ни говори, всегда приятно. и отца уважить, хотя он тебя и попер из дому в благородной непримиримости.
Ладно. Пути наши несколько лет больше не пересекались. с мамой мы встречались, конечно, а с отцом нет.
И вот двадцать третий год. в Москве — сельскохозяйственная выставка, на которой мы работаем гидами — уже не за полбуханки и селедку в день, как работали на субботниках, нам уже платят по два рубля в золотой валюте, ботинки на мне английские и модное длинное пальто. Институт у нас партийный, закрытый. Швейцар, как у буржуев, вызывает меня: «К вам кто-то приехали». Спускаюсь вниз — батя. с арбузищем — я такого большого сроду не видывал, с выставки, что ли. Как тащил батя, не знаю. Такой громадный, что все хохотали в восторге.
Да, отец с арбузом в том кушеточном, психологическом эксперименте оттуда, из двадцать третьего года. Говорил ли я об этом мальчику-аналитику? Да я в тот момент, наверное, и сам не помнил, откуда явился в мое видение батя со своим невероятным арбузом. Или же настолько знал, что не придал этому значения.
Как ели арбуз, самого застолья не помню. Зато как помню арбуз: громадный, налитый свежей влагой, сцепленной, как морозцем, лишь своей сахаристой сутью, некой поволокой да разве еще косточками. и жизнь тогда была такой же громадной, полной, так что самый невероятный, тяжеленный арбуз должен был, как пузырек воздуха, всплывать вверх из этого потока — все было легко, все возможно.
Три ипостаси таким образом были в моем кушеточном видении. Кавун, арбуз, — из тех, что от одного прикосновения ножа вдруг лопаются извивисто по всей упругой шкурке, по всему своему с сединой сахаристости нутру, лопаются кусками, которые и резать-то жалко, — так и вгрызаешься в них, захлебываясь, умазываясь всей мордой, упоенно ощущая мгновенное исчезание сахаристой плоти, превращение ее в чистую сладость. Затем отец.
Странные, однако, штуки вытворяет прихотливая память: отца и арбуз помню так ярко, но не помню ни единого слова. Нет бы вспомнить или заново затеять застольный разговор с отцом, ведь только-только прошла гражданская война, уведшая сына от отца, отца от сына, неважно, закончена эта война или только кажется, что закончена, но есть же убеждения, есть идеи и мысли, есть опыт войн и революций — чем не сюжет для Достоевского или Ануя, у которых каждый прав согласно своей идее или, может, идея подпирает жестокий, противоречивый опыт. Но разговор забыт начисто. и не исключено, что память права: идеи идеями, разговоры разговорами, но вот она, полнота жизни и отринутая было, неуничтожимая любовь.
Арбуз, отец и третье — луг.
Три компонента в моем видении, и что значили они, пытался понять Филипп. Мне же была неинтересна эта задачка. Мое психическое здоровье на этот раз меня не волновало, хотя я пришел вроде бы из-за него, из-за немоготы, немощи, сплина.