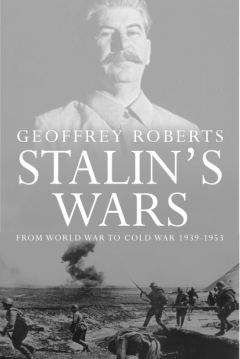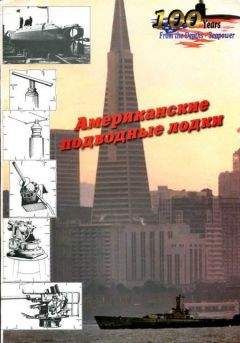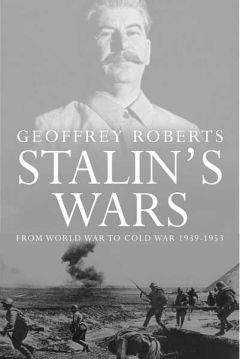Луиджи Капуана - Маркиз Роккавердина
Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, маркиз свирепо уставился на нее, сжимая кулаки, подняв широкие плечи, словно хотел наброситься.
— Выслушайте меня, ваша милость! — проговорила она с мольбой в голосе. — Потом делайте что хотите, только помилосердствуйте, выслушайте меня!
Из-за небритого несколько дней лица и всклокоченных волос он казался постаревшим лет на десять.
— И кто же это тебя сюда послал! — процедил он сквозь зубы. — Господь бог? Или дьявол?
— Почему вы так говорите?
— Зачем пришла? Говори! Да побыстрее!
— Баронесса посылала за мной. Она говорит…
— Что она говорит?
— Говорит, что это я подговорила убить своего мужа!
— И ты пришла рассказать мне об этом?
— Понимаю!.. Я теперь ничто для вашей милости… Вы гоните меня от себя, как бешеную собаку. Что я такого сделала? Что я сделала? Выходит, вы, ваша милость, тоже верите?
— Какое тебе дело, верю я или не верю?
— Это подлость!
— О!.. Еще и не такие подлости творятся в этой жизни!
— Но что я такого сделала, пресвятая мадонна?
— Что сделала?.. Что сделала?.. Ничего!
Агриппина Сольмо, силясь понять, ходила следом за ним и с мольбой смотрела на него полными слез глазами.
— Ничего! Ничего! — повторял маркиз, кружа по комнате, терзаемый какой-то печальной мыслью, которая, видимо, лишала его покоя, и бормотал какие-то слова, которые явно не хотел произносить вслух.
— Я ухожу, — покорно сказала Агриппина Сольмо. — Последний раз ваша милость видит меня здесь. Лучше бы господь сразил меня тут, прежде чем я выйду за ворота!
И она направилась было к двери.
Маркиз обернулся. Она подумала, что он собирается что-то сказать ей. Но нет, он только смотрел на нее, должно быть, хотел убедиться, что она и в самом деле уходит.
— Я любила вас! — заговорила она горестно, но в голосе ее не было и тени упрека. — Я почитала вас, как бога. Вы взяли меня к себе в дом, осыпали благодеяниями, я это знаю!.. Но разве я не отдала вам взамен свою честь, свою молодость, сердце, все? Никто никогда не узнает, сколько я выстрадала с того дня, как ваша милость… Словно тряпку, которую можно взять и выбросить!.. О!.. Вы могли делать все, что вам заблагорассудится. Вы сказали мне: «Ты должна поклясться!» И я поклялась перед распятием. Я готова была пылью лечь вам под ноги, чтобы вы ходили по мне!.. Может, вы думаете, ваша милость, что мне не противно было? Думаете, совесть не мучила меня? Какая мне была разница? Я грешна была — от судьбы никуда не денешься! — и осталась грешной, как прежде. Поэтому я поклялась перед распятием!.. А теперь я ухожу!.. Мое сердце не выдержало бы, если б я не сказала вам все это! Вы верите, ваша милость, что это я подговорила убить Рокко Кришоне?.. Так заявите властям! Пусть меня осудят пожизненно!.. Но нет, ваша милость в это не верит, не может верить!..
— Правильно говоришь! Я не могу в это верить! — И он добавил еще более мрачно: — Было бы лучше и для тебя, и для меня, если б это было так!.. И кто тебя только послал сейчас сюда? Господь бог или дьявол?
Агриппина Сольмо, в отчаянии заломив руки, сокрушенно покачала головой и продолжала совсем уже тихо:
— Вы так не говорили, когда я просила вас: «Отпустите меня! Оставьте меня!» И несчастная мать моя плакала: «Это твоя погибель, доченька!» Так и случилось! Разве важно, что теперь у меня ни в чем нет недостатка? Дом, золото, добро — ваша милость все может взять обратно… Другая на моем месте так не сказала бы! А вот баронесса — да простит ее бог! — говорит, что я хожу сюда, чтобы начать все сначала, чтобы… Мне стыдно повторить то, чем она меня попрекнула!.. Да когда такое было? Когда? Даже когда однажды вы, ваша милость, сказали: «Ты здесь хозяйка, ты всегда будешь хозяйкой!»… О, не надо злиться!.. Я ухожу!.. Всему я могла бы поверить, только не тому, что вы так со мной обойдетесь! «Это твоя погибель, доченька!» Мама была права!..
— Замолчи! Замолчи! — закричал маркиз.
Она ушла еще более расстроенная и потерянная, чем прежде, и в глубине души у нее шевельнулось как будто угрызение совести.
Мрачные взгляды маркиза, словно холодное лезвие, ранили ее, проникали в самые затаенные уголки совести, куда она и сама не решалась заглядывать, и ей казалось, будто он уже обнаружил там измену, которую она собиралась совершить и, наверное, совершила бы, если б ружье убийцы не сразило Рокко Кришоне из-за кактусовой изгороди в Марджителло в то время, когда она ждала его в темноте у окна, как ждут любовника!
5
Тетушка Грация, увидев, что она снова появилась в прихожей, принялась упрекать ее:
— Довольны? Будто у него и без того мало неприятностей, у несчастного моего сына!
Так она называла его уже сорок с лишним лет. А теперь, когда браки и смерти опустошили дом и в нем остались только маркиз да она, ее материнское чувство так упрочилось, что временами ей казалось, будто она не только вскормила, но и родила его в тех же муках, с какими произвела на свет плод несчастной любви, ребенка, душа которого отлетела через несколько дней в рай.
Тогда живы были еще маркиз-отец и эта святая женщина — маркиза, прекрасная, как мадонна. Паралич ног приковал ее к постели после аборта, из-за которого она несколько месяцев была между жизнью и смертью!
Жили тут еще в прежние времена кавалер и синьорина — дядя и тетя нынешнего маркиза, которые тоже звали ее мамой, хотя были уже совсем взрослыми. Синьорина, став баронессой, продолжала называть ее «мама Грация», хотя сама была такой же старой, как она… И кавалер тоже!.. Но к ним она не питала никакой нежности. Кого она любила и ради кого готова была принять муки и смерть, так это маркиз, вскормленный ее грудью.
И вот теперь она совсем потеряла покой, видя, как он переменился с того дня, когда убили Рокко Кришоне. Он, можно сказать, не ел и не спал, как будто вместе с Рокко у него отняли полжизни. Иногда она слышала по ночам, как он все ходит взад и вперед по спальне, по другим комнатам, и она вставала с постели и, полуодетая, спешила к нему.
— Тебе нездоровится, сынок? Тебе что-нибудь надо?
— Ничего, мама Грация. Спите спокойно. Ничего!
И она засыпала, читая молитвы, а днем, едва закончив кое-какие дела по дому, казавшиеся ей неотложными, снова принималась молиться.
Дону Аквиланте было не понять, как может маркиз терпеть ее подле себя, всегда нечесанную, в каких-то лохмотьях вместо одежды и в старых шлепанцах, сваливавшихся с ног на каждом шагу.
— Да, чистоплотностью она не отличается!
— Бедная старуха делает то, что ей по силам, — отвечал маркиз.
Мало что было ей под силу, почти ничего. К счастью, маркиз жил отшельником. Платил ежемесячно членские взносы в клуб, но никогда там не бывал. Со своим дядей, кавалером, не разговаривал уже много лет. Тетушку баронессу навещал редко, только на рождество, под Новый год и на пасху, или в тех случаях, когда баронесса посылала за ним и настойчиво требовала к себе.
С другим своим родственником, кавалером Перголой, он порвал отношения в шестидесятом году, потому что тот, революционер и атеист, соблазнив дочь дяди-кавалера, сочетался с нею лишь гражданским браком в муниципалитете после пяти лет позора для всей семьи; сыновья его росли без присмотра и уже научились богохульствовать почище отца.
Единственным развлечением маркиза были прогулки по площадке, наверху у замка, среди развалин бастионов и башен, разрушенных землетрясением тысяча шестьсот девяносто третьего года. От них мало что уже осталось. «Старый» маркиз, как называли его деда при жизни, не стеснялся использовать тесаные камни этих исторических руин для облицовки фасада своего дома, и никто не осмеливался воспрепятствовать этому вандализму. И вот теперь маркиз прогуливался по площадке, заложив руки за спину, в домашних туфлях, одетый как попало, считая, что здесь он почти как у себя дома, и «давал аудиенции», сидя на известняковых ступеньках цоколя, — много лет назад лигурийские миссионеры установили на нем деревянный крест, который сильный порыв восточного ветра разнес в щепки, а новым его так и не заменили.
По вечерам крестьяне, жившие поблизости, поднимались на площадку, чтобы полюбоваться заходом солнца, поглядеть на поля, и маркиз снисходил до разговора с ними, расспрашивал, давал советы. И если кто-нибудь из них отваживался заметить, что так уж все ведется со времен Адама и лучше ничего не менять, возмущенный маркиз возвышал голос и набрасывался на него:
— Поэтому вы и прозябаете весь свой век в нищете! Поэтому и земля не родит больше! Боитесь руки себе намозолить, если поглубже вскопаете землю! Едва прикоснетесь к ней, слегка пощекочете и хотите, чтобы урожай «оправдал» ваши труды! Вот-вот! Он и оправдывает ваше безделье. И дальше хуже будет!
Казалось, он тут же полезет с кем-нибудь в драку. Крестьяне, возвращавшиеся с поля, слышали его еще у подножия холма и узнавали по голосу: «Маркиз проповедует!» И всем становилось понятно, о чем идет речь.