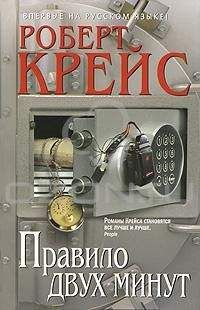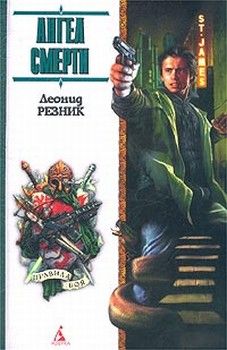Василий Ардаматский - Последний год
— Но чем вызвана ваша забота о моих делах?
— Ну во-первых… — замялся Крюге. — Я уже проявил подобную заботу не только о вас. Во-вторых, уже давно вы мне глубоко симпатичны своей непохожестью на инертных тюфяков. И последнее: я живу и действую все-таки в России. И в отличие от крикунов, которые под каждой лавкой ищут немцев и вопят о своем русском патриотизме, я всерьез думаю о завтрашнем дне России, и я уверен, что ее дальнейшее благополучие в экономической связи с Германией, как это и было доказано в довоенный период…
Разговор закончился тем, что Рубинштейн вернул Крюге чек и взамен получил право на приобретение акций банка «Юнкер и К°» на сумму, троекратно превышавшую выигрыш. Но это было только начало. Спустя несколько дней Рубинштейн приобрел у Крюге за половинную сумму векселя великого князя Михаила Александровича на сумму около ста тысяч рублей. Крюге убедил его пойти на эту сделку, чтобы, как он выразился, иметь в своем кармане члена царской семьи, что всегда может пригодиться. Сам он воспользоваться этими векселями не мог — его имя связывают с немецкими интересами, и предъявление к оплате векселей великого князя могло вызвать ярость монархистов.
Рубинштейн вернулся в Петроград, довольный своими кисло-водскими сделками и с твердым решением держать финансовый курс на Германию. В конце концов это было единственной возможностью оградить себя от чисто русской экономической катастрофы. И он был благодарен судьбе, подсунувшей ему в Кисловодске этого самого Крюге.
Заместитель министра иностранных дел Анатолий Анатольевич Нератов заканчивал завтрак в своей квартире на Фонтанке с родственником, неожиданно нагрянувшим к нему с фронта штабс-капитаном Тусузовым. Тусузову интересно было узнать, что делается в верхах. Он приехал с фронта, где с начала войны нес офицерскую службу при армейском военно-полевом суде. Никогда Нератов не видел его таким расстроенным и угрюмым. Ему хотелось узнать, что делается на фронте, а Тусузов явно не хотел говорить об этом и расспрашивал, что делается в Петрограде.
— Ты лучше расскажи, как там дела в окопах? — спросил Нератов.
— На войне как на войне, стреляют и даже убивают, — невесело усмехнулся в пушистые усы Тусузов и спросил — Не скажешь ли, как расцениваются наши военные дела здесь? Нам-то там даже в бинокль всего не увидеть… — Тусузов пытался шутить, но Нератов слишком хорошо его знал, чтобы не видеть его настроения.
— Как ты понимаешь, я занимаюсь только международным аспектом войны, а здесь все неизменно — наш военный союз нерушим…
Они довольно долго обменивались ничего не содержащими фразами, и Тусузов наконец замолчал, опустив голову…
— Как твое мнение, сколько мы еще можем выдержать такую войну? — серьезно и доверительно спросил Нератов.
— Какую именно? — не поднимая головы, отозвался Тусузов.
— С тяжелыми потерями и без заметных успехов…
— Долго не протянем.
— Но хватит вооружения? Живой силы? Почему?
— Главное, на фронте больше нет тех солдат, с которыми мы начали войну, — ответил Тусузов.
— Не понял — они что, все погибли? А пополнение?
— Многие, конечно, погибли, уцелевшие стали другими. А пополнение состоит из людей, которые в ожидании призыва имели время подумать о войне. Теперь они об этом говорят с уцелевшими, — спокойно сказал Тусузов, как видно, давно продуманное.
— Но разве думающий солдат хуже?
— Весь вопрос, что он думает…
— А что же он думает?
— Что войну надо кончать и, пока не поздно, спасать Россию. Нератов подошел к зеркалу, увидел в нем себя — привычного, строго одетого, с гладко выбритым холеным лицом, и тотчас отвернулся, будто сам себе не понравился. Спросил:
— Как это можно кончить войну и спасти при этом Россию? И вообще как это кончить? И от чего спасать Россию?
— Как кончить? — переспросил Тусузов, вставая. — Очень просто: штыки в землю и домой, спасать Россию от преступной власти.
— Ну знаешь… — изумленно сказал Нератов… — Если бы я это услышал не от тебя…
— Вызвал бы полицию? — прищурил голубые глаза Тусузов. — Не хватит, Анатолий, полицейских на всех, кто так говорит или думает. Неделю назад мы судили одного унтер-офицера, так он заявил это на суде.
— Так это же изменник! — воскликнул Нератов.
— И мы его расстреляли, — тихо ответил Тусузов. — Но в последнем слове он называл себя иначе — социал-демократом, большевиком.
— Большевиком? Так это и есть первостепенный изменник! — убежденно и почему-то радостно воскликнул Нератов. — Расстреляли, и делу конец.
— Если хочешь знать, это расстрелять нельзя. Последнее время на передовой все больше таких агитаторов, и их призывы падают на благодатную почву — война осточертела всем, тем более такая война… без света в окошке, и это самая главная опасность войне, России, монархии, всем нам.
— Подожди, подожди… — тихо перебил Нератов и с искренним изумлением произнес — Но разве солдату непонятно, что во время войны пацифистские настроения — это начало поражений?
— Если бы просто пацифизм, — ответил Тусузов.
— А что ж тут не просто?
— Правда, не хотелось бы говорить.
— Вот тебе и раз… как говорится, спасибо за доверие…
Они стояли друг против друга — высокий, прямой, подтянутый Нератов и сутулый, какой-то совсем невоенный в мешковатом кителе Тусузов, — хоть и родственники, люди одного мира жизни, но один из них знал о войне настоящую правду, и от этого они говорили будто на разных языках. Тусузов в смущении развел руками:
— Извини… Я скажу… — пробормотал он и, решившись, вскинул голову — Они считают эту войну преступной, потому что она ведется за интересы не народа или России, а фабрикантов и помещиков. И что царь, таким образом, служит не народу, а сословию богатых. Ты бы послушал этого, которого мы судили. Он говорил нам: «Господа судьи, то, что военные промышленники нажили на этой войне золотое брюхо, ясно и вам. А что обещают народу? Дарданелльский пролив? А на кой он ляд нашему крестьянину, который знает, что дома у него уже некому пахать землю? Или рабочему, который как гнул спину на хозяина, так и гнет…» — Тусузов вдруг осекся, посмотрел на брата, слушавшего его с бледным лицом. — Извини, Анатолий, — сказал он другим голосом. — Но ты сам попросил меня… я сказал тебе правду. Ты спросил, я ответил… А что будет дальше, даже подумать страшно… По неужели здесь никто ничего этого не знает?
— То, что война сложилась для нас тяжело, знают все.
— А то, чем это может обернуться для России, понимают? — снова, вскинув голову, спросил Тусузов.
Нератов не ответил… Он в это время вспомнил недавний разговор с министром Сазоновым, который сказал, что сейчас проблемами России всерьез занимаются только солдаты на фронте… Нератов тогда не понял министра, теперь ему было все ясно, и от тревоги щемило сердце… Неужели все так плохо?
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Для начальника штаба царской Ставки генерала Алексеева ничего, кроме войны, не существовало. И войну он видел как некое особое действо, совершенно оторванное от жизни России. Он однажды признался, что потери на войне не воспринимает как людские потери. Его беспокоит только одно — когда в формуле сражения потери начинают заметно превышать реальные резервы. Войной он занимался ежедневно, старательно, строго, ревностно оберегая свое высокое единоначалие от всех и подчиняясь только одному человеку.
Первые два года это был великий князь Николай Николаевич — грозный, громогласный, но, увы, знающий военное дело далеко не достаточно. Ему не дано было видеть и понимать всю необозримую панораму этой великой войны. Алексеев до сих пор не простил ему трагедию армии Самсонова, которая, он считал, погибла из-за самодурства великого князя: легкомысленно заверив союзников, что готов наступать на Берлин, он без достаточной подготовки погнал в наступление армии Самсонова, Ренненкампфа и другие.
Когда главнокомандующим был Николай Николаевич, царь находился от Алексеева где-то далеко, отгороженный от него могучей фигурой великого князя. Теперь над Алексеевым сам монарх. Только царь стоял за его спиной. Его ежеутренние доклады царю проходят спокойно. Царь молча выслушивает его более чем краткое сообщение о случившемся на всех фронтах, затем выслушивает его предложения, которые к моменту доклада, как правило, уже оформлены в соответствующие приказы. Он крайне редко вмешивался в сложнейшие штабные дела. Но если он это иногда делал, Алексееву бывало нелегко. Собственные мысли о ходе войны возникали у царя спонтанно, беспричинно и необоснованно, но он неожиданно становился упрямым и требовал беспрекословного выполнения своих указаний. Попытки Алексеева возражать вызывали у монарха неудовольствие, даже гнев. Алексеев скоро понял, что царь, как правило, вмешивается в дела войны по чьей-то подсказке. Но все же подобные вмешательства царя были не такими уж частыми, и, кроме того, Алексеев иногда брал на себя смелость «не понимать» некоторые указания монарха и поступать по-своему. И не было случая, чтобы Николай это обнаруживал… Пожалуй, у генерала Алексеева были все основания считать, что с царем ему работать легче, чем с великим князем.