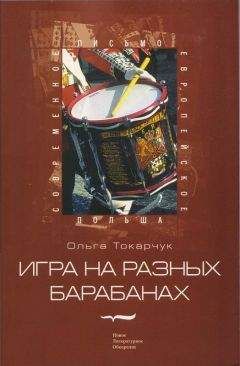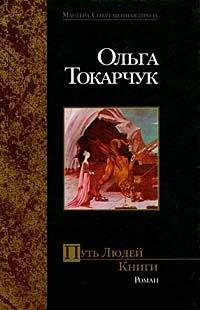Самсон Шляху - Надежный человек
Он старался ни на минуту не закрывать глаза, беспрерывно переводил взгляд с одной точки на другую, иначе можно было уснуть. Если поддашься дремоте, тогда…
Сыргие стал придирчиво выбирать самое высокое дерево. Конечно, сосны уходили верхушками в самое небо, но по ним было почти невозможно взобраться. И все же он облюбовал высоченный ствол и с трудом, обдирая в кровь руки, то и дело останавливаясь чтобы передохнуть, залез под самую зеленую крону.
Перед глазами поплыли неясные обрывки снов. Они обволакивали длинными полотнищами детских пеленок, окутывали последние проблески сознания, накладывали на глаза плотную, тугую повязку. В ушах раздались звуки колыбельной песни… Внезапно пеленка стала разматываться, но из‑под нее сразу же показалась другая. Он схватил руками плотную, жесткую ткань, надеясь отбросить ее в сторону и увидеть наконец ребенка, своего ребенка, но… Только тягучий напев колыбельной песни: «Нани–на! Нани–на…»
Если он еще раз уснет, то непременно свалится. Тогда он сразу же пустит себе пулю в лоб. Разом рассчитается и с фашистами, и с самим собой. Пуля в висок, и конец. Если б только не было жаль… Нани–на!
Он снова стал думать о ребенке. Если бы сейчас его могла услышать Илона! Он бы сказал: от меня, конечно, от меня! Убедил бы ее, убедил, несмотря ни на что… О чем тут думать, если он знает точно, если ни капельки не сомневается? Где она сейчас, что с нею? Хотя бы знать, что жива, пока еще жива. Как ее, наверно, пытают, требуя раскрыть цель операции, рассказать о нем, убежавшем!.. Он же так скверно держался в самолете, замкнулся в себе, вспомнив ни с того ни с сего, как долго ходил на встречи по нечетным дням — и все впустую, впустую…
Шелест листвы напоминал доносящийся издалека шепот человека, и что только не слышалось ему в этих смутных ночных звуках! Где‑то в глубине сознания все время билась мелодия какой‑то неясной, грустной песни… И вот там… Он видит внезапно «брата» Канараке — тот выходит во двор из подвала мастерской.
— Как обстоит со шплинтами для подсвечника? — заметив озабоченное лицо «брата», спрашивает Сыргие.
— Мне сейчас не до них, — рассеянно отвечает тот.
— Ты чем‑то расстроен? Что случилось? Где Йоргу?
— Мы ждем тебя на утреннем молении, — невнятно бормочет баптист.
Волох чувствует что‑то неладное.
— Опять молеыне? Но со шплинтами все в порядке? Подсвечник понадобится очень скоро…
— Не знаю, не знаю, — благочестиво склонив голову, отвечает Канарзке. Стекла очков как будто удаляли от собеседника его глаза.
— Как это — не знаешь? — Волох с трудом сдерживает недоумение. — Или опять жалеешь палачей? Опять скажешь: «Они ведь христиане?»
— Мы ждем тебя на молении, — более твердо говорит «брат».
— Но почему не хочешь объяснить… что все–такп произошло?
— «Солдат, поверни винтовку!» Это призыв к кровопролитию.
— А что делают фашисты?
— …«Оскверним святые храмы. Предадим хуле имя господа!» — не слушая его, стал бубнить «брат».
— С чего ты взял? Откуда такие слова?
— От вас, коммунистов. Вы их проповедуете. На словах — одно, зато в листовках — совсем другое. Хотите извести верующих, в первую голову — монахов.
— Ты сам читал такую листовку? Тогда покажи и мне!
Он вернулся из подвала взбешенным. «Брат» Канараке в самом деле показал листовку, отпечатанную па шапирографе, — он, разумеется, мог быть только у подпольщиков. Содержание листовки полностью подтверждало слова баптиста, и было нелегко убедить его, что это работа провокаторов, если вообще не сигуранцы илт гестапо. Но с какой целью сфабрикована фальшивка? Там черным по белому было написано: «Долой монахов!» Конечно, чтоб вызвать раздор…
…Сыргие попытался отогнать воспоминания: ему столько нужно обдумать… Дождаться бы темноты, а там…
Внезапно он остро ощутил безмятежный покой ночи: казалось, только в это мгновение все вокруг полностью погрузилось в тишину, так что можно было явственно услышать дыхание спящего леса.
«Не умру, ни за что!» — пронеслась в голове мысль, положившая конец прежним опасениям.
И снова воспоминания…
…На заре, как предупредила тогда, в его каморке, Илона, он встретился с Зуграву. Тот был в хорошем настроении, выглядел бодро, по–военному подтянуто. Он взял Волоха за руку — прямо тут же, на улице, и непринужденно, нисколько не таясь, даже не понижая волоса, сказал:
— Держись увереннее, парень, не опускай голову. Не забывай: мы у себя дома! Это во–первых… Во–вторых, сронно передавай дела, которые связывают тебя с этим городом. Вот так… Между прочим, с какой‑то частью людей я уже в контакте. Не сердись — не было времени поставить в известность, торопят события… Подробности дела тебе должна была сообщить Илона… А теперь скажи, пожалуйства, чья это работа — крушение поезда с гитлеровскими солдатами? Впрочем, по глазам вижу: ты ничего не знаешь… Даже понятия не имеешь!
Он остановился посреди дороги, протянув крепкую руку, и в этом движении была приподнятая торжественность.
— Руководство посылает тебя на задание. Как ты думаешь: это решение что‑то означает? Означает! А именно: дело поручается тебе не только потому, что за тобой следят ищейки. Прежде всего — потому что полностью заслуживаешь доверия… Одним словом, — он резко понизил голос, — предстоит отъезд, очень интересная и, насколько известно, ответственная миссия.
В его глазах, слегка затуманенных грустью, даже в том, как он замедлил — чисто машинально — шаг, Волох увидел искреннюю, идущую от сердца зависть.
— Подробностей пока сообщить не могу, — продолжал Зигу. — Но скоро все узнаешь, так чаю немного потерпи. Пока ж суд да дело, сдавай с рук на руки своих баптистов. Всех поголовно. — Он негромко рассмеялся. — Как можно скорее познакомь с кельнером, точнее, с обер–кельнером Тудораке. Нагрузка, которая легла на него, оказалась чертовски трудной, это мне известно, и все ж дело провернули отлично.
— Ясно. Но вместе с тем бдительность есть бдительность, — сказал Волох.
— Не спорю. Но она как раз и должна предотвращать разобщенность — предотвращать, а не вызывать! Разве может быть более страшная опасность для партии, чем изолированность одного коммуниста от другого? Ну да ладно, если не видишь за деревьями леса, тогда действуешь только в силу необходимости, даже по принуждению… — Он внезапно спохватился, торопливо посмотрел на часы. — Что же касается железной дороги, табачной и обувной фабрики — тут полный порядок. То же самое скажу и про район кирпичного. Браво! Да, кстати, если не ошибаюсь, группа располагает шапирографом?
— Нет, его никогда у нас не было, стараемся писать по–печатному, но от руки.
— Как же так? Но где тогда взяли шапирограф люди, распространяющие «антирелигиозные» листовки? Это становится интересным! — Теперь Зуграву говорил с крайним удивлением. — Ну, а вы куда смотрели, почему не сумели узнать, кто автор этих проклятых листовок?
— Пока не сумели. Хотя нужно, из‑за них получились осложнения с «братьями».
— Так когда покажешь их? Собери и познакомь, ладно? Насчет дел на фронте — в курсе? Не очень? Опять не работает приемник? Земля крутится, жизнь идет вперед, а у нас нет даже времени оглянуться. И все ж оглядываться нужно, обязательно! Так когда все‑таки покажешь баптистов?
Сыргие ответил не сразу. Куда больше его занимали мысли о самом Зуграву. Прежде всего: где это он пропадал столько времени, почему и на этот раз явился неузнаваемым? Как‑то иначе разговаривает, по–другому держится, не говоря уже о кудрявой, в колечках, бородке, тщательно расчесанных волнистых волосах. Даже ходит по–особому — упругим, четким шагом. Одежда, казалось бы, самая обычная, однако производит впечатление военной формы. Еще бы… звездочку на берете, только ее не хватает! И красной повязки на рукаве, наподобие той, которую Сыргие увидел на нем в первый день войны, когда догорало зарево пожара. В движениях — раскованность, уверенность. Так и веет энергией, достоинством. Действительно чувствуется, что человек у себя дома.
— Хотелось бы также знать, как обстоит с операцией «Зажженный светильник»? Трубку достали?
— Ты и об этом знаешь! Но откуда? Хотя нет, все ясно, — задав вопрос, он сразу понял, что незачем ждать ответа. — Завтра вечером, устраивает? В конце рабочего дня. Если хочешь, назови место, куда за тобой зайти.
— До меня дошли любопытные сведения насчет вашей сестры Параскивы. Не может ли она и меня взять на работу? — Затем задал еще один вопрос: — А у тебя есть специальность? Что‑то не могу вспомнить, чем занимался до войны?
— Тянул кота за хвост, — улыбнулся Сыргие. — Один день — жестянщик, второй — маляр, обойщик.
— Значит, универсал? Что подворачивалось, то и делал? Но без специальности, без знаний человеку трудно выпрямиться во весь рост.