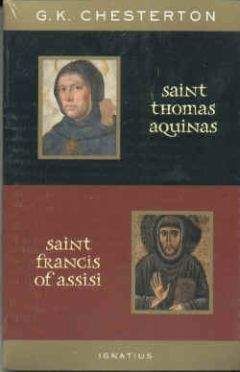Криста Вольф - Расколотое небо
Тогда, в 1960–1961 годах, открытая межзональная граница в Берлине способствовала всяческой коррупции, шпионажу, измене, возникновению неуверенности. Из-за открытой границы мы часто лишь с колебанием применяли законы, в правильности которых не сомневались. Особенно сказывалось такое положение на производительности труда — она повышалась не столь быстро, как было необходимо. Это противоречие, с которым сталкивался каждый здравомыслящий человек на любом производстве, создавало для многих, и в первую очередь для товарищей, сознающих свою ответственность перед страной, труднейшие ситуации: они чувствовали себя связанными по рукам и ногам, не всегда понимая причину этого. К таким вот людям, которые, несмотря ни на что, продолжают бороться, принадлежит в моей книге и Рольф Метернагель. Как раз на примере Метернагеля и многих других, кого мне пришлось наблюдать в тяжелых, сложных ситуациях, я убедилась: спустя пятнадцать лет после разгрома фашизма социализм в нашей стране стал реальностью для миллионов, повседневной действительностью, целью их самоотверженного труда, превратился — при всех трудностях его роста — в животворную силу. Если бы меня спросили, есть ли у нас основания для оптимизма и уверенности, я бы ответила: да, именно чувство оптимизма и уверенности я считаю главным нашим достижением за последние годы.
Некоторые критики не усмотрели в моей книге как раз оптимизма. Им было грустно читать ее, говорят они, не понимая того, что не всякий «восторг» плодотворен и не всякая грусть неплодотворна. Меня тогда мучил вопрос: почему нам не удается удержать в наших рядах всех, кто по- своим коренным интересам должен быть с нами? Что отталкивало порой от нас молодых людей? Некоторых, известных мне лично, было очень жаль терять. Другим, стоявшим на «перепутье», требовалась срочная и действенная помощь. И разве не должна была оказать эту помощь также литература?
А как обстояло дело с самыми молодыми, двадцатилетними, с «новым поколением»? Как они, прожившие всю свою сознательную жизнь в новом обществе, справлялись со многими влияниями, которым они подвергались у нас? Что они делали для того, чтобы осуществить свои идеалы? Что мешало им в этом?
Двух представителей обоих этих поколений — поколения, пережившего войну, и поколения, не знавшего ее, — я избрала главными героями своего романа, Риту и Манфреда. Накрепко связала их друг с другом, поставила перед испытанием и в конце — ибо только девушка выдержала это испытание — разлучила. Конец большой любви всегда печален, и должна признаться, когда я писала книгу, то сама искала иной выход, но, поразмыслив, оставила все так, как есть: ведь история Риты и Манфреда не выдумана мною, хотя сюжет и герои не заимствованы непосредственно из жизни. Это всего лишь одна из многих историй, которые возможны у нас сегодня.
Некоторые критики упрекают меня в том, что раскол Германии я возвела в трагедию и что мне следовало сильнее подчеркнуть положительную окраску, которую, бесспорно, придает современной истории Германии само существование ГДР. Я же думаю, что трагично было бы, если б Рита, вопреки своему здравому чувству и рассудку, смирилась и последовала за Манфредом по его пути в одиночество. Что помогло ей принять трудное решение, если не вся ее жизнь в нашей республике и тесная связь с людьми, которых она не может покинуть, не потеряв веры в себя? Старые силы, безраздельно господствовавшие в прежней Германии, утратили свою власть над таким человеком, над миллионами таких, как Рита. Ей больше ничто не помешает в ее стремлении быть Человеком, стремлении, которое она не смогла бы осуществить в капиталистическом обществе; а ведь именно это противоречие трагической нитью прошло через судьбы героев всей классической буржуазной литературы.
Непреодолимое желание писать сразу же, не выжидая, пока материал отлежится, созреет, пока можно будет взглянуть на него с некоторого временного расстояния, определялось самой сущностью этой истории, тем, как я ее понимала. Конечно, правильно, что в прозе историю следует рассказывать «с конца», как говорил Гете. Но как узнать конец еще не завершившегося процесса? Я сделала несколько вариантов начала, меняла фабулу, но меня это по-прежнему не удовлетворяло. И лишь идея построить повествование в двух плоскостях времени — пребывание Риты в санатории и собственно история ее любви — позволила самой Рите, читателю и автору глубже уяснить себе все пережитое ею, позволила всем нам как бы подняться над событиями и тем самым сделала излишней необходимость временного расстояния.
Тогда, летом 1961 года, нажим с Запада на нас усиливался с каждой неделей, с каждым днем. Стоило лишь сдвинуть стрелку шкалы радиоприемника на два-три миллиметра вправо или влево, как тебя оглушали призывы к бегству, вой сирен и едва прикрытые угрозы. Кое-кто из пожилых людей начал запасаться продуктами (разве однажды не началось точно так же?). Неожиданно всплыло страшное слово: война!
К 13 августа, когда мы приняли меры по защите наших границ, план моего романа был уже окончательно продуман. Я спросила себя: может быть, все-таки написать и об этом? Бегство Манфреда в Западный Берлин было бы сейчас невозможно. В результате этих мероприятий людям, подобным Манфреду, надо было теперь хорошенько поразмыслить, прежде чем очертя голову бежать через границу. Надо ли еще раз напоминать им?.. Под впечатлением августовских событий я начала писать свой роман. Мне хотелось, чтобы в книге отразились не только мое чувство облегчения, моя уверенность и спокойствие, но и моя тревога и мучившие меня вопросы.
Когда я писала последние главы, над миром снова нависла мрачная тень: Карибский кризис. Западное радио вещало, вернее, внушало, что с минуты на минуту произойдет столкновение американских и советских кораблей. Я видела радость на лицах, когда мы оказались сильнее и война была предотвращена.
Перспектива предстать перед советским читателем взволновала меня даже больше, чем выход моей книги здесь, в ГДР. Я хорошо понимаю, что в другой стране моим героям предстоит выдержать более трудные испытания. У нас я могу рассчитывать на то, что немецкий читатель невольно заполнит пробелы в моем повествовании собственными ассоциациями, а кое-что, обозначенное лишь намеком, ему поможет понять собственный опыт.
В донце 1962 года роман печатался в нескольких номерах студенческого журнала «Форум» и встретил широкий отклик у молодежи. Позднее, после выхода книги, я получила множество писем и приглашений от заводов, университетов, клубов, библиотек… В последние месяцы я встречалась с сотнями людей. Некоторые читатели толковали мои замыслы так, что лучше мне и самой не сделать, хотя на слабости произведения никто не закрывал глаза. Меня обрадовала нелицеприятность и страстность, с какими молодежь обсуждала книгу, словно событие собственной жизни. Иные читатели поставили меня своими вопросами в затруднительное положение, полагая, что я смогу дать им практические советы, как поступить в том или ином случае. Девушки, например, пишут мне, что любят юношу, похожего, по их мнению, на Манфреда («он тоже совсем не такой, каким кажется, и только я, я одна, действительно знаю его»); а один молодой человек без стеснения открыто признался, что он «тоже был вроде Манфреда», и рассказал о своем нелегком пути.
Других задели за живое определенные эпизоды романа — именно к этому я и стремилась. Они реагировали бурно и не всегда по существу, зачастую высказывая неосновательные подозрения, о которых и говорить не стоит. Чаще случается — и это гораздо полезнее, — что спор о книге переходит в спор о конкретных жизненных проблемах и тем самым каждое частное мнение подвергается перепроверке. Особенно охотно я беседую с молодыми учителями и студентами, у которых как раз сейчас много «жгучих» вопросов (эти вопросы горячо обсуждаются также в наших газетах). Это нетерпеливые, умные, находчивые и смелые читатели. Писать для них книги будет с каждым годом труднее и труднее.
Однажды у меня завязалась долгая дискуссия с совсем юными студентами о понятиях «родина» и «отечество». Я больше слушала, чем говорила. Один юноша рассказал, что, будучи за границей, слышал, как легко и непринужденно пели чешские и советские студенты свои старые народные песни и с какой робостью и смущением последовали их примеру наши студенты. «Отчего это? — спросил он. — Как случилось, что мы не знаем тех песен, в которых воспевается природа другой части Германии? Разве мы больше не воспринимаем эту другую часть как нашу родину?» Выло видно, что он затронул самое больное место. Одни с пылом возражали: «Нет, страна, в которой правят империалисты, не может быть моей родиной. Тем хуже, если там говорят по-немецки!..» Другие: «Для меня вся Германия — родина, и мы не имеем права отказываться от ее западной половины! Но мое отечество здесь, где я вырос, где я учусь, где я чувствую себя дома…» Они описывали то особое чувство «возвращения домой», которое почти каждый из нас испытал, когда, возвращаясь из поездки в Западную Германию, пересекал границу… Все это я рассказываю для того, чтобы советский читатель хотя бы частично ознакомился с трудными, интересными и важными для нашего будущего процессами, которые происходят сейчас в умах нашей молодежи.