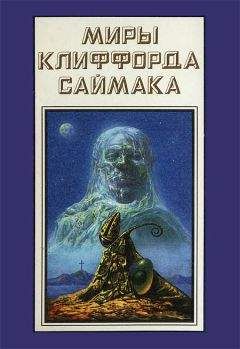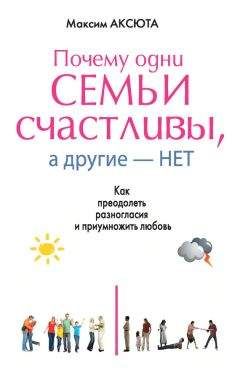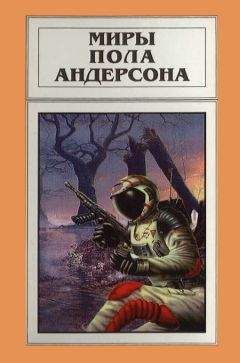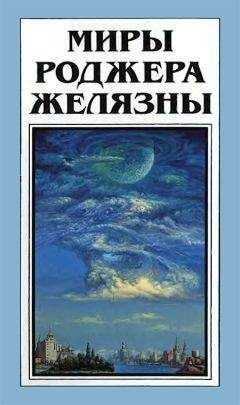Жорж Дюамель - Хроника семьи Паскье: Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями.
Я с сожалением посмотрел на него. «Все испытать!» В его устах это звучит довольно безотрадно. И, не ожидая моего ответа, он принялся молоть вздор. «У Жюстена собачий характер, — говорил он, — но парень знает, чего хочет». Я передаю тебе смысл его слов. На мой взгляд, это не что иное, как дань уважения. И подумать только, что, по мнению Сенака, у тебя собачий характер! Поразительно!
Вслед за этим Сенак заговорил о Бьевре, что он делает ежедневно, не без дрожи в голосе, посапывания и покашливания. Такие-то дела! Если бы мы добились своего, мы были бы еще в Бьевре, и все шло бы по-старому: каждодневная, будничная работа, борьба за успех, разговоры, ссоры. И вечные жалобы на судьбу. Но мы потерпели крах. Неудача дает простор мечте, развязывает ей крылья. Из-за того, что мы потерпели крах, «Уединение» представляется нам в самом радужном свете. И мало-помалу переходит в разряд возвышенных воспоминаний. Утешение, как видишь, несколько парадоксальное! Размышляя на эту тему, я задаю себе вопрос, чем был, в сущности, потерянный рай? И не потому ли он стал раем, что был потерян? Жизнь состоит, таким образом, из обескураживающих контрастов. Если бы существовали только привычка и иммунитет, все было бы слишком хорошо, а также слишком просто. Но имеется еще и анафилаксия. Понимаешь? Нет? Это не что иное, как состояние повышенной чувствительности организма, который вместо того, чтобы приспособиться к ядам, к чужеродным субстанциям, неожиданно восстает против них и предпочитает погибнуть. Куда ни повернись, всюду контрасты, антагонизм, разногласия.
Вот мы и отвлеклись от Сенака. Тем лучше.
Я был у г-на Ронера. Попросил профессора принять меня, чтобы представиться ему и сообщить о моем назначении. Я давал тебе как-то его книгу «Происхождение жизни» и уверен, что, познакомившись с ней, ты не испытал ничего, кроме уважения к незаурядному уму ее автора. Полагаю, однако, что сам человек поразил бы тебя.
Я видел г-на Ронера сотни раз издали, когда слушал его лекции. Сегодня утром я увидел его совсем близко. Какая неожиданность! Иные оптические аппараты создают иллюзию приближения. Великолепный повод для ошибок: только подлинное приближение позволяет нам, несовершенным животным, познавать окружающий мир. Видеть в десяти — двенадцати метрах от себя господина, рассуждающего возле своих приборов, кое-что значит. Но пробыть хотя бы минуту с этим человеком, неожиданно оказаться в непосредственной близости от него, близости в пространстве и во времени, видеть неровности его кожи, округлость щеки, чуть заметную растительность на подбородке, ощущать его запах, да, да, я не оговорился, запах его одежды, его тела, его жизни, воспринимать не только тембр его голоса, но и ритм биения сердца, чувствовать теплоту его дыхания у себя на лбу или на руке, встречать его взгляд, пока тот еще не остыл, не изменился под влиянием расстояния или побочных впечатлений, следить за непрестанными изменениями зрачка, за движением мускулов, трепетом век и за многими другими менее заметными, но более таинственными и интересными явлениями, поверь мне, это захватывающее зрелище. Как видишь, я без стеснения провозглашаю себя последователем Шальгрена.
Господин Ронер был в лаборатории, там он меня и принял. Зная о недавнем возвращении профессора из России, где он лечил холерных больных, а следовательно, изучал холеру на месте, я надеялся, что он хоть упомянет об этом. Увы, он ничего не сказал; его молчание меня огорчило и в то же время показалось героическим. Человек едет на борьбу со страшной эпидемией, а по возвращении ведет себя так, словно он прогулялся воскресным днем в Вильнев-Сен-Жорж, чтобы отведать там жареной рыбы. Мне понравилась эта сдержанность, хотя мое любопытство и не было удовлетворено.
С первого взгляда Николя Ронер не похож на ученого, который ведет кропотливые исследования в области биологии. Его можно принять за военного, скажем, за генерала от артиллерии или за генерала инженерных войск. Он небольшого роста без всякого намека на полноту, на массивность. Держится прямо. Его почти совсем седые волосы коротко острижены и стоят спереди жестким бобриком. Он носит усы и эспаньолку. Черты лица не слишком отяжелели, и кожа сохранила известную свежесть, известную молодость. О взгляде стоит поговорить особо. Он меня озадачил. Это в точности взгляд моего отца, взгляд лазурный, ясный, холодный, слегка иронический. К счастью, этот взгляд иногда беспричинно теплеет, и губы профессора складываются в обольстительную улыбку, что приносит некоторое облегчение собеседнику.
На г-не Ронере была куртка, а не халат. Он, видимо, много курит, так как усы окрашены табаком. Указательный и большой палец правой руки тоже пожелтели. От одежды, от всей его особы исходит еле уловимый запах бензойной смолы.
Тогда как в лаборатории г-на Шальгрена все просто, скромно и даже слегка припудрено пылью, словно подернувшей предметы дымкой мечтаний, в лаборатории г-на Ронера все сверкает, все начищено, отполировано. Г-н Шальгрен весьма близок душой к Пастеру, который сделал свои прекраснейшие открытия в скромном жилище на улице Ульм. Напротив, у г-на Ронера есть что-то американское — никель, блеск. Не ищи в моих описаниях ничего похожего на критику. Я искренне считаю, что гениальность может проявляться без помпы, без шума. Я полагаю также, что скаредность, свойственная некоторым нашим учреждениям во Франции, может сковать ум и довести ученого до отчаяния. Заметь, что я стараюсь быть беспристрастным.
Мы долго говорим о моих планах. Точнее, я говорю… Г-н Ронер слушает. Иной раз на его лице появляется замкнутое выражение, и мне становится не по себе, будто я разглагольствую перед стеной. Затем он пускает в ход свою обольстительную улыбку, и все кругом озаряется. Профессора, видимо, заинтересовала научно-исследовательская работа, которую я собираюсь вести в его лаборатории по вопросу о полиморфизме некоторых патогенных бактерий, чтобы на ее основе написать мою диссертацию по медицине. Он неоспоримый авторитет в этой области и первый биолог, который попытался применить к микроорганизмам давние идеи Юго де Ври о мутациях. Я говорю с тобой не совсем понятным языком. Извини меня, зато он как нельзя лучше передает постоянно осаждающие меня мысли. Запомни из этих излияний основное: деля свое время и свой труд между г-ном Шальгреном и г-ном Ронером, я следую зрело обдуманному плану.
Я сказал г-ну Ронеру, что работаю над диссертацией по биологии в лаборатории Французского коллежа. Он сдержанно улыбнулся и ответил, что высоко ценит г-на Шальгрена как ученого. Несколько слов, не больше. Я был глубоко взволнован при виде той благородной простоты, с какой эти двое незаурядных людей заочно, мимоходом, отдают должное друг другу.
Под конец он показал мне свои владения. У меня будет лаборатория, правда, крошечная, но для меня одного. Сотрудников здесь немного, и можно будет успешно проделать нужную мне работу. Пока в лабораториях почти пусто. Я познакомился с бледной высокой брюнеткой, которая исполняет здесь обязанности лаборантки. У нее грустные глаза и низкий, тихий голос. Она показалась мне очень симпатичной. Она занимает, видимо, весьма скромное положение, но держится мило, с большим достоинством. Ее имени я не запомнил.
Я предупредил свою привратницу, что побываю дома до полудня, перед тем как идти обедать к Папийону. К сожалению, кормят там плохо, и большинство ребят сбежало оттуда.
Поднявшись по лестнице до своей квартиры на улице Соммерар, я увидел Тестевеля, сидевшего на ступеньках.
Тестевель очень меня огорчает. Наш верзила совсем опустился. У него скорбный взгляд человека, предавшегося страстям, как говорил некогда Бренуга. Вместо того чтобы выставить себя в выгодном свете, он перестал следить за собой, за своей одеждой. Он плохо выбрит. Ногти запущены, в трауре. Он был таким чистюлей прежде, а теперь ходит в нечищеном костюме. По-видимому, он окончательно впал в любовное безумство. Я говорю об этом с горечью, с беспокойством, ведь речь идет о моей сестре Сюзанне. О, я не слишком беспокоюсь за Сюзанну: она никогда не выйдет замуж за Тестевеля. Она мечтает о карьере, о театре, об артистической деятельности. Тестевель нужен ей как стоптанный башмак. Раз двадцать на дню она награждает Тестевеля шлепками, похожими иной раз на пощечины. Бесцеремонно дает ему множество немыслимых поручений. Он снова стал работать корректором в газете «Матен» и проводит в редакции часть ночи. Встает он поздно. Вернее, должен бы вставать поздно. Но Сюзанна требует, чтобы он ждал ее рано утром на Пастеровском бульваре и провожал оттуда в Консерваторию. Он устает. Стал бледным и жалким. Сюзанна переняла манию Сенака: она наделяет Тестевеля всевозможными глупыми прозвищами — Тетеря, Тетанус, Тестомеля и т. д. и т. п. В иные дни он бывает наверху блаженства, остальное время погружен в мрачное уныние. Я сказал пару слов Сюзанне. Она весело рассмеялась, и притом с такой невинной жестокостью, что я тоже не мог удержаться от смеха. У нее бывают вздорные требования и капризы. Она приказала, например, несчастному Тестевелю носить галстуки Лавальер. На следующий же день он пришел, нацепив на себя мягкий галстук в горошек. Как бы мимоходом она дернула галстук за концы, чтобы развязать его. Он снова его завязал. Она раз двадцать развязывала галстук. И каждый раз со взрывом смеха. Я разозлился, ведь она моя сестра. Сделал ей замечание. Тестевель был готов меня съесть. Он ворчал: «Ведь это сама жизнь! Это молодость! Ты становишься брюзгой. Неужели ты уже ничего больше не понимаешь?»