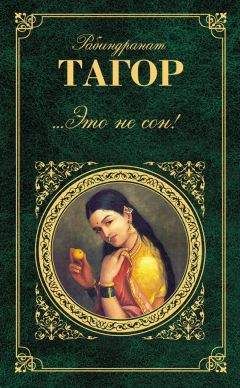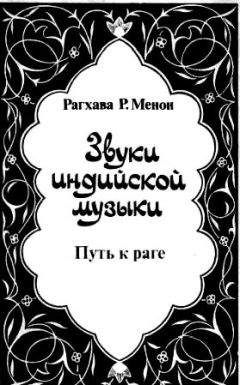Юрий Калещук - Непрочитанные письма
— Вполне.
— А почему вахта Серикова? — ревниво спросил Давлетов. — Пускай бурильщик с нами был Сериков, но вахта же сухоруковская. Сухоруковские мы. Да.
— Но он же со своей вахтой пробурил, — пояснил я. — Еще в шесть утра. А пересменка была в восемь.
Давлетов посмотрел недоверчиво, потом взял журнал, стал пересчитывать, морща лоб и шевеля губами.
— И все-таки семьдесят тысяч, — вздохнул Китаев, — только семьдесят тысяч. — Вместе с вахтой мы возвращались автобусом в город. — В следующем году надо сделать восемьдесят пять, не меньше...
— Больше! — выкрикнул Саня Вавилин.
— Сколько же? — полюбопытствовал Китаев.
Вавилин задумался.
— Если поднапрячься, то возьмем и восемьдесят шесть...
— Ну, это не девяносто, — улыбнулся Китаев. Однако, помолчав, добавил: — Девяносто мы тоже взять можем... Можем... Что для этого нужно? Чтобы каждый думал не только и не столько о себе, сколько о других... Понимаете?
— Именно что каждый, — отозвался Давлетов. — Ведь мы, наша вахта, почему работаем хорошо? Потому что привыкли друг к другу, чувствуем друг друга, понимаем. А поставили к нам в вахту чужого бурильщика — так мы и не понимаем его совсем...
— Не так ты Сухорукова защищаешь, — поморщился Китаев. — Не так. Его от себя надо защищать.
— Но это же Сухоруков! — воскликнул Равиль Мухарметов. — Серьезно, Виктор Васильевич...
— Скажи, Рома, — спросил Китаев у Мухарметова, — на сколько медленнее ты делаешь спуск-подъем, чем Сухоруков?
— Я же его ученик, — уклончиво ответил Мухарметов. — Только ученик...
— Не нравится мне, Рома, что ты юлишь. Ты прямо говори.
— Ну, на час.
— Так вот. Мне этот час не нужен. И метры мне сухоруковские не нужны, хотя их он дает поболее, чем другие. Не нужны мне его метры! Мне человек нужен. Ты понимаешь, Рома?
— Понимаю.
— И только сам он может вернуть себя. Только сам. Помогите ему это понять.
— Ты, Васильич, — кипятился Лехмус, — хочешь, чтоб люди у тебя были как кирпичики, один к одному. А они разные. Понимаешь — разные! То ты на Сухорукова нападаешь, теперь к Метрусу начал цепляться. Да ведь это лучшие твои бурильщики! Асы!
— Перестань, Альберт, — вяло отмахивался Китаев. — Разве ж только в этом дело? Лучшие, хорошие, замечательные... Мало мне, чтоб они только бурильщиками хорошими были! Надо, чтобы еще и людьми вырастали порядочными. А эти, твои асы... Один возомнил о себе бог весть что. Другой метры рвет, пока вышка не развалятся, — а остальным, значит, обломки за ним подбирать, мусор выносить, да?
Погода никак не благоприятствовала такому ходу разговора. Высокое безмятежное солнце не жалело тепла; ветер, неизменно дежуривший над озером, на этот раз был даже приятен, он нес с собой терпкий запах пробуждающихся трав и деревьев; мы сидели втроем на чистом крылечке культбудки, чуть поодаль пристроился Макарцев, читавший толстую растрепанную книгу; на соседнем островке готовились к передвижке; мы ждали, пока придет вахтовый автобус, но уезжать не собирались: до конца пятилетки бригаде оставалось пройти неполных три сотни метров, и, скорее всего, сегодня вечером это событие произойдет, а вместе с ним завершится сюжет, который мы с Лехмусом в течение полутора лет называли «хроникой бригады Виктора Китаева».
— Послушай, Васильич, — сказал я. — А как теперь у тебя с Усольцевым? Ну, после того разговора о переходе в управление?
— По-разному, — уклончиво ответил Китаев. — По-всякому... — Он сидел с непокрытой головой, и его рыжеватые, уже начавшие седеть волосы постоянно меняли оттенок, поддаваясь дуновению ветра. — Ведь мы домами с ним дружим... И в институте вместе учились, тоже не чужими были. А на работе — ну просто враги. У него один подход к делу, у меня другой. Он за свои решения цепляется, а я спорю. Вообще-то так и надо — дружба дружбой, а дело делом, Но его переубедить невозможно. Даже нелепую точку зрения — если это его точка зрения — он будет отстаивать до конца. Упрямый. Конечно, в тридцать пять лет главный инженер такого управления, как наше, — это что-то. Но можно в тридцать пять и министром быть. Трудно стало работать. С тех пор как отказался перейти в управление, труднее стало. Труднее. У него память хорошая. Особенно на то, когда ему поперек скажешь. За чем к нему ни зайдешь — он тут же: «Не захотел идти в управление? Доброго совета не послушал? Ну вот. Теперь сам выкручивайся!» Да не хочу я выкручиваться. Я работать хочу...
— Между прочим, — снова проворчал Лехмус, — Метрусенко сегодня на рыбалку не поехал. Потому как понимает, что за день нынче. А ты, Васильич, говоришь, будто он только о себе да о себе...
— Что же мне теперь, Альберт, — раздраженно сказал Китаев, — в ножки твоему распрекрасному Метрусенко кланяться? Да еще спасибочки ему сказать, что он румынское долото похерил и всю бригаду целые сутки заставил в дерьме ковыряться?
— Ладно вам, — примирительно сказал я. — День и впрямь такой, что не стоит вспоминать про дурное.
Китаев поглядел на меня насмешливо, но ничего не сказал.
Вдали показался автобус. Дорога уже просела, и было видно, как на стыках плит машина подпрыгивает, словно школьница, играющая «в классы». Автобус повернул сначала к соседнему островку, оставил там вышкомонтажников и вахту Гечя и, не задерживаясь, двинулся к нам. Макарцев сразу же принялся собирать свой нехитрый инструмент, встрепенулся и Лехмус, автобус заскрипел тормозами.
Первым прыгнул с подножки Сухоруков, спокойный, с гладко выбритым лицом, и нарочито медленно зашагал к вышке.
Несколько раз после того памятного декабрьского утра, когда Китаев оставил его на морозной пустынной площадке автостанции, я пытался поговорить с ним, и всегда это было тягостное изматывающее занятие, доставлявшее удовольствие, кажется, только Лехмусу, — пристроившись где-нибудь рядом, он щелкал затвором камеры, приговаривая: «Теперь сходитесь... Хладнокровно... Вот так... У тебя, Федя, право первого выстрела... Нормально... А теперь ты, дед...» Но, как бы ни были мучительны наши объяснения, прок от них был немалый: и Федор постепенно выговаривался, да и я стал понимать в жизни бригады чуть больше, чем ранее. Талантливый по природе человек, Сухоруков вдруг уверовал в то, что будет первым всегда, не прилагая к этому особых усилий, при любых обстоятельствах, а когда вышло иначе, неожиданно принялся винить в этом не себя, не самодовольную леность свою, а вздорный характер и дурные свойства натур других людей. Но он не был бы Сухоруковым, если бы не сумел — пускай и не сразу — отличить ложные причины, вымышленные от подлинных.
— Федор, — сказал Макарцев, — шарошки расходить надо — заклинило.
— Сделаем, Сергеич! — весело ответил Сухоруков.
Макарцев совершал таинственные пассы у ротора; взмахивал руками, помечал мелом положение кривого переводника, переносил отметки на трубы, считал, рассчитывал, проверял заново. Не страх ошибиться, а привычное желание сработать хорошо, грамотно, как здесь любят выражаться, жило в нем неистребимо и, казалось, уж не зависело от него. Сухоруков поглядывал на Макарцева, и вся вахта работала до того слаженно, что даже улыбаться они начинали одновременно.
— Теперь пойдем, — сказал Макарцев. — Метров шестьдесят. А там замер.
Пошли. Прошли квадрат, нарастились, снова квадрат...
— Нет, это только Сухоруков, — восхищенно сказал Макарцев четыре часа спустя. — Начали кривить в шестнадцать — и уже заканчиваем. Да такого никогда еще не бывало.
Федор ухмыльнулся. И вся вахта заулыбалась следом.
— Если и этот замер пройдет нормально, — пробормотал Макарцев, — значит, осталось десять метров. До пятилетки. Последние десять метров...
Разматывался трос, уходил вниз квадрат; на одной из граней его была сделана отметка мелом. Я следил, как она приближалась к ротору. Ниже, еще ниже. Все. Солнце коснулось озера. Было девять часов вечера. Сухоруков вновь отпустил тормоз, и меловая отметка исчезла.
Все? Квадрат продолжал опускаться, долото вгрызалось в породу, шло бурение.
Бригада Виктора Китаева начала десятую пятилетку.
— Ура? — то ли спросил, то ли сказал Лехмус.
— Ура-а-а!
Китаев шагнул к Сухорукову, обнял его. А Макарцев задумчиво произнес:
— А вообще-то здорово все это. И только здесь такое по-настоящему понимаешь... Но если, к примеру, отобью я сейчас в Куйбышев родственникам телеграмму: «Поздравьте выполнением пятилетки», — то даже мой высокоидейный тесть решит, что я спятил.
По дороге к буровой стремительно мчалась «Волга». Китаев пригляделся, удивленно сказал:
— Лёвин едет...
Ну, а после, уже в городе, мы долго не могли угомониться, ходили из дома в дом, то обрастая новыми людьми, то теряя своих спутников, побывали у Вавилина, отдали должное его коллекции значков, навестили Метрусенко, умяли гору жареных карасей да еще пирог с нельмой не пощадили, зашли к Мовтяненко, поглядели захватывающий дух фильм про хантыйскую охоту на медведя — режиссером, оператором и продюсером фильма был Толя Мовтяненко, а сценаристом, актером и каскадером Федя Метрусенко, долго провожали Лёвина и еще дольше Китаева, хотя все было рядом, потом вместе с Лехмусом и Богенчуком, которого, мы, конечно же, разыскали, хотя было это не так уж просто, приперлись на ночь глядя к Макарцеву; жене Макарцева Геле, по-моему, это не очень понравилось, а мраморную догиню Альму возмутило до крайности; Богенчук сказал ей: