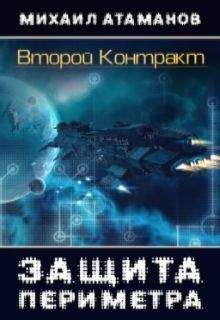Валерий Вотрин - Логопед
— Мы признаем ваши заслуги, Лев Павлович, — тихо, с напряжением произнес он. — Это грамота о даровании вам звания логопеда. Церемония принесения присяги состоится позже, когда мы утрясем организационные проблемы. А пока примите.
И он протянул бумагу Заблукаеву.
Заблукаев взял ее. Он сам удивился, как вдруг затряслись его руки. Сколько раз он видел во сне, как приносит присягу логопеда. Даже поздравления снились ему, аплодисменты, торжественные трубы. Сколько лет он стремился стать логопедом, сколько трудов и усилий положено. Но всегда на этом пути возникали препятствия, и самое главное, которого не обойти, — наследственное членство. И он спросил Страхова дрогнувшим голосом:
— Насколько я помню, только тот, в чьих жилах течет кровь логопеда, может стать логопедом. Разве правила изменились?
— Я — главный логопед, — сказал Страхов. — И пусть я не прямой потомок Мезенцева, так, седьмая вода на киселе, но я принял решение изменить правила. Отныне за особые заслуги звание логопеда может быть даровано отличившемуся с правом передачи по наследству. Вы такой чести заслужили больше других. Прошу вас, примите грамоту.
Заблукаев кинул еще один взгляд на документ. Это была грамота как грамота — писанная витиеватым почерком, с размашистой подписью Страхова. И Заблукаев спросил его тогда:
— Меня вам, видно, рекомендовали? Я знаю, что рекомендовали. Я даже знаю имена этих людей. Девель Евгений Леонидович, да? Закревский Виталий Николаевич? Ну, и прочие кураторы и просто сведущие люди.
— Покойный Евгений Леонидович высоко отзывался… — начал Страхов, но Заблукаеву все уже было понятно, и он прервал его:
— Я очень благодарен вам, Александр Николаевич. Вы прекрасно знаете, как я стремился попасть к вам. Я положил на это годы своей жизни. Но только сын и внук логопеда могут быть логопедами. А я — учитель, потому что я сын и внук учителя. И я буду учительствовать. Кому-то ведь нужно исправлять ошибки, вот я этим и займусь.
Он положил грамоту на стол, повернулся, и тогда за его спиной раздался ровный голос Страхова:
— Выходит, мы очень ошиблись в вас, Лев Павлович.
И Заблукаев ответил через плечо:
— Напротив, Александр Николаевич, вы никогда не ошибались на мой счет.
Еще несколько дней он никак не мог отойти от этой встречи — волновался, проговаривал про себя бесконечные диалоги со Страховым, снова и снова взвешивал свое решение. Но оно было уже принято — чего рядить? И Заблукаев начал успокаиваться. Понятно, что он приобрел врага, — Страхов был не из тех, кто забывает. И, вероятно, следовало ожидать каких-то ответных действий. Заблукаев не боялся смерти — ни Страхов, ни кто-либо из его окружения не могли знать заветного умертвляющего слова. Они могли сделать другое — умалить газетную деятельность Заблукаева. И вскоре он понял, что его опасения на этот счет начинают сбываться.
Другие газеты — «Речь», «Патриот», «Вестник логопедического братства» — стремительно набирали обороты. Они больше не отводили первых полос под нескончаемые взаимные обличения. Каждая из них быстро нашла свою специализацию. Так, «Речь» и «Патриот» публиковали, в основном, новости с родины — у них оставались там хорошие источники, снабжавшие их компетентной информацией. «Патриот», кроме всего прочего, вскоре стал основным печатным органом нового правительства в изгнании, созданного Страховым. «Вестник логопедического братства» освещал жизнь логопедов-эмигрантов, печатал объявления о собраниях и вообще организовывал разрозненное братство как мог. Были также газеты помельче и побульварнее.
Между тем «Правило», не сменившее редакционной политики и продолжавшее свою проповедь правильной речи и нападки на речь неправильную, начало быстро терять популярность. Нынешние читатели газеты, почти сплошь бывшие логопеды, находили газету скучной и тривиальной. В редакцию потоком полились письма с советом сменить тему. Редакция на эти письма отвечала, что в нынешней ситуации, когда поддержка гибнущему языку нужна, как никогда, газета считает своим долгом продолжать писать на животрепещущие темы. Тогда письма с советами приходить перестали, а над газетой принялись подтрунивать.
Сначала тихонько, а потом все громче и громче зазвучал со страниц эмигрантской прессы издевательский смех. Заблукаев вдруг оказался очень смешон. Новым эмигрантам было в нем смешно все: его твердая позиция, которая казалась слепым упрямством, язык его статей, вообще его газета, не менявшаяся многие годы. Карикатуры на Заблукаева — вот он, залитый чернилами, ожесточенно строчит, не замечая бушующего вокруг пожара, вот он, пыхтя, катит в гору огромный камень, вот он сражается с ветряными мельницами — заполнили страницы недружественных газет.
Заблукаева это не могло не задевать. Он знал наверняка, кто подогревает эту кампанию. Но больше его беспокоило то, что тиражи резко упали и его больше никто не слушает. На родину «Правило» как раньше не попадало, так и не попадало теперь. По сути дела, его газета и он сам перестали быть нужны. У него не осталось читателя.
Это не укладывалось в его нынешнее видение своей миссии. Окончательно осознав себя учителем, он лишился главного — ученической аудитории. Проповедник может говорить к зверям и птицам полевым, и те, бывает, обращаются. Пророк может вещать в пустыне: это не очень действенно, зато всегда служит примером. Учитель не может ни того ни другого: звери даже после тысячи учебных часов не заговорят на правильном языке, а в пустыне учить некого, она сама учит.
Впервые за много лет у Заблукаева опустились руки.
Тогда-то и возвратился Юбин. Пришла очередная ничего не обещающая ночь, и Заблукаев вдруг очутился на том же холме и вновь видел перед собой равнину и пасущееся на ней громадное животное. Рядом стоял Юбин и протягивал ему подзорную трубу. Он был так же строг.
— На-ка, — сказал он. — С ней видеть способнее.
Заблукаев взял трубу и приложил ее к глазу.
И сразу очутился он в облаке слов, беспорядочном темном вихре, в котором отдельные слова не читались, а сливались в один сплошной типографский ветер. И он словно стоял среди этого вихря, ослепленный и онемелый. Напрасно крутил он туда и сюда трубой: носящиеся вокруг слова были какие-то бесформенные, измененные, распущенные и оттого бессмысленные. И он понял, что очутился внутри Языка. Он принялся отдалять изображение — и перед ним вырос исполинский бок, который, как дикой шерстью, был покрыт словами, спутанными, сбившимися, слипшимися. Казалось, у самых глаз торчит слово «леконствукция». Заблукаева передернуло, он еще отдалил изображение — и увидел животное целиком.
Это был он, Язык. Невозможно описать его. Он весь вихрился, брезжил, менял очертания. Он, конечно, не пасся, так просто казалось издали. Он владычествовал. Склонив бесформенную голову над страной, он глядел, слушал, подчинял. Под ним сновали микроскопические людишки, но их почти не было видно. Он сам был ими. И он не мог говорить. Да, Заблукаев сразу понял, что Язык — немой. Он мог только проникать в людей, но нашептывать со стороны не мог. Язык не имел языка, но имел миллионы острых проникающих слов.
И он почувствовал Заблукаева. Как — тот не имел ни малейшего понятия. Но Язык вдруг осознал, что на него кто-то смотрит, и медленно оборотился. От этого зрелища Заблукаев обмер, но продолжал глядеть. Он просто не мог оторвать трубу от глаза. И тогда Язык увидел его. Он стал расти в размерах. Заблукаев все отступал и отступал, а Язык рос, вырастал над ним.
До самого неба поднялся он на длинных корявых ногах, опустил к нему страшную, то ли песью, то ли козью, морду и завыл. Заблукаев выронил трубу и закричал. Он хотел проснуться — но кто-то не отпускал его. Рядом стоял строгий Юбин.
— Ну, что, теперь понял? — спросил он.
Заблукаев, не в силах говорить, только кивнул.
— То-то, — сказал Юбин. — Вот это Он и есть. Теперь тебе шибко думать надо.
— А вы, Фрол Иванович?
Юбин покачал головой.
— Ты что, не понял еще, Левка? Я ведь давно неживой. Упустил он меня. А вот других подмял. Им-то это невдомек, знай себе балабонят. Думать надо, Левка.
Заблукаеву захотелось плакать при взгляде на него. Он наконец понял, что Юбин и вправду умер, и ему стало горько от этой утраты. Юбин это заметил.
— Ты, Левка, понапрасну-то слез не лей. Ты лучше делом займись. Давай-ка сюда трубу озорную, мне ее возвратить надобно. А сам без дела не сиди. Ты парень головастый, разберешься.
Заблукаев потянулся обнять его.
— Эх, дура! — ласково произнес Юбин и обнял его в ответ. От него пахло старыми книгами — милый, позабытый запах.
В слезах проснулся Заблукаев.
В последующие три дня Заблукаева не видели — он заперся в своем кабинете и никого не впускал. Сотрудники бродили по редакции, пили чай и вполголоса обсуждали вялотекущие дела. Прошел слух, что Заблукаев готовит обличительную статью в адрес других эмигрантских газет. И это было очень похоже на него, так что никто его не беспокоил.