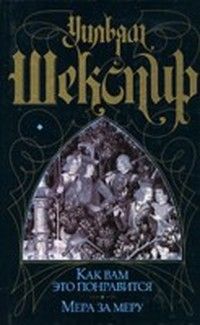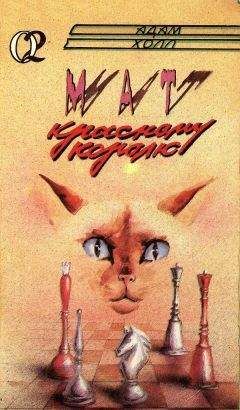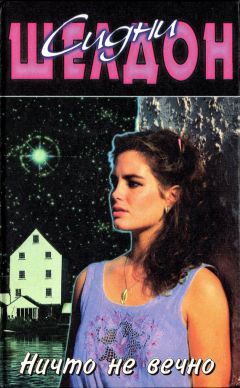Андрей Добрынин - Избранные письма о куртуазном маньеризме
Сказать, что этот танец не слишком радовал глаз, значит ничего не сказать. Зрелище было настолько нелепым, хаотическим и безобразным, что поневоле завораживало зрителей, чувствовавших в нем некое отрицательное величие. Поэт приседал, подскакивал, яростно топал, размахивал руками, словно мельница крыльями, и время от времени отчаянно вскрикивал. Каждое последующее его движение никак не вытекало из предыдущего, в них не прослеживалось законченности и плавности, хотя выделывал их Добрынин с лицом замкнутым, сосредоточенным, даже ожесточенным. Единственное, чего было не занимать танцу Приора, так это энергии. Он так старательно вихлялся и кобенился, словно изо всех сил стремился сделать свои па как можно более угловатыми и неприятными для зрителей. С растрепавшимися волосами, с лицом, налившимся кровью, с рубашкой, выбившейся из брюк, в развевающемся пальто, танцующий поэт производил тягостное впечатление. Сам он, однако, нисколько этим не смущался и продолжал плясать, вызывая у всех окружающих чувство мучительной неловкости. Чем дольше длился танец, тем больше нарастало это чувство, и лишь Великий Приор отхватывал трепака как ни в чем не бывало. «Смотри! — не сбавляя темпа, кричал поэт генеральному директору. — Сама русская поэзия пляшет перед тобой за тысячу рублей!»
Право, мой рассказ отнял у меня немало сил, и я рад, что он близится к концу. Неожиданно прервав танец, Добрынин решительно пресек робкие попытки обратить все происшедшее в шутку и, тяжело дыша и злобно гладя в глаза генеральному директору, потребовал гонорара за свои труды. Получив зелененькую, которую сомнамбулическим движением извлек из кармана коммерсант, он повернулся и, не прощаясь, широкими шагами двинулся к выходу, растолкав завороженно взиравших на него работников биржи. Те молча неотрывно глядели ему вслед. Стряхнуть оцепенение им удалось лишь после того, как сутулая фигура поэта в развевающемся пальто обогнула вразвалку угол соседнего здания и скрылась из виду. «Н-да…» — растерянно пробормотал генеральный директор. Его заместитель лишь удрученно вздохнул.
Простите, друг мой, если я расстроил вас этим не слишком радостным посланием, однако признаком мудрости всегда являлось умение беспристрастно рассматривать собственные действия и находить в них недочеты и ошибки во избежание повторения таковых в будущем. Большинство людей по слабости характера предпочитают свои ошибки просто подвергать забвению, но малодушие, к счастью, противно моей натуре. Не буду утомлять вас анализом всего вышеописанного: во–первых, оно само говорит за себя, а во–вторых, я всегда считал, что дело художника лишь верно показывать явления, предоставляя делать выводы другим. Следует всегда руководствоваться блестящим высказыванием Чехова: «Не мысль рождает образ; наоборот, живые образы рождают мысль».
Новостей, кажется, в нашем кругу никаких нет, разве что наш общий знакомый Барон вновь попытался удавиться, и вновь неудачно. Впрочем, это уже и новостью–то не назовешь, а потому я прощаюсь с Вами до тех пор, пока еще неведомые яркие события не вторгнутся в нашу рутину, позволив мне тем самым порадовать Вас занимательным письмом. В ожидании светлых перемен и в надежде на них остаюсь неизменно уважающим Вас —
Андреем Добрыниным. Москва, 15 января 1992 г.
ПИСЬМО 43
Дорогой друг!
Прежде чем спрашивать меня о том, какое место занимает куртуазный маньеризм в моей жизни, Вам следовало бы спросить: а что такое, собственно, моя жизнь? Лишь поняв ее характеристические черты, можно понять и ту роль, которую играет в ней куртуазный маньеризм. Лучше всего мой земной путь обрисовывают слова несправедливо забытого английского реалиста прошлого века Ч. Диккенса, написавшего однажды: «Пороки и угрызения совести, скитания, нужда и непогода, бури во мне и вне меня сократили мою жизнь. Мне долго не протянуть». Давно известно, что благонравие, похвальное для людей заурядных, не может создать истинного художника. Пруст писал: «Как великие учителя церкви, родившиеся на свет хорошими людьми, часто начинали с познания грехов всего человечества и в конце концов достигали святости, так же часто и великие художники, родившиеся на свет людьми дурными, пользуются своими пороками, чтобы прийти к постижению кодекса морали, для всех». Смешон тот автор, который берется решать вопросы человеческого поведения и который при этом всю жизнь вел себя исключительно добродетельно. Такой человек не в силах убедительно поставить проблему нравственного выбора. Об этом справедливо писал тот же Пруст: «Быть может, только действительно порочная жизнь способна дать толчок постановке нравственной проблемы во всей ее грозной силе». Истинный художник своим образом жизни напоминает того героя Стейнбека, которого было опасно подвергать искушению, потому что он и не думал с ним бороться. Только ввергнув себя в бушующее море разнообразных страстей и бестрепетно повинуясь их яростным порывам, творческая личность сможет постигнуть мотивы людских поступков, куда чаще направляемых страстями, нежели разумом. Драйзер об одном из своих героев писал: «Никто не сумел бы убедить его, что этим бренным миром правит добродетель». Иногда мне кажется, будто это сказано обо мне. Драйзер напоминал также: «Судьи — глупцы, как, впрочем, и большинство людей в этом дряхлом и зыбком мире». Стало бытъ, не стоит творцу бояться людского суда: решающим аргументом в пользу его полного оправдания послужат его произведения. Страсти, увлечения и пороки не сокрушат подлинно значительную личность — они лишь придадут ей прозорливости. Куртуазный маньеризм, таким образом, можно определить как мелодический вопль одинокой души, увлекаемой посреди житейского моря волной любострастия в бездну разочарования или же на рифы полного физического и нервного истощения. Однако тот, кто опасливо стоит на берегу ярящихся вод, никогда не сможет потрясти своим воплем сердца сограждан. «Судьба не дарит счастье иль невзгоду; Судьба — желанье, прихоть, воля, страсть» — напоминал Барбоза ду Бокаже. Тот, кто дерзостно ставит себя выше Судьбы, обрекается ею на творческое бесплодие, и наоборот: лишь тот, кто смело вступил о нею в схватку, способен создать воистину нетленное произведение. «Произведения созревают в душах столь же таинственно, как трюфели на благоухающих равнинах Перигора», — указывал Бальзак. Поэтому не стоит пытаться отразить в холодных словах несказанную деятельность. Вверимся смело голосу страсти, который есть голос Судьбы, и благосклонная Судьба довершит остальное.
Москва, 22 января 1992 г.
ПИСЬМО 78
1
Приветствую Вас, любезный друг!
Помимо того искреннего стремления написать Вам, которое порождено уважением и любовью к Вашим прекрасным человеческим качествам, а также удовольствием, полученным мною от чтения последнего Вашего послания, особое тяготение к перу и бумаге вызвал во мне Ваш рассказ о человеке, вполне, по Вашим словам, достойном, но заявлявшем, что будто бы он не любит поэзию вообще, или, иначе говоря, стихи как способ изложения любой информации. Легко понять, что мне, человеку, всю жизнь положившему на усовершенствование именно стихотворного способа изложения, подобное заявление, — само по себе, возможно, и вполне правомерное, — показалось возмутительным и требующим опровержения. С другой стороны, вряд ли подлежит опровержению испытываемая человеком склонность или, наоборот, отвращение к некоему предмету: это, как говорится, дело вкуса. Задачей философа может стать лишь объяснение того, почему у данного лица возникли именно такие, а не иные, вкусы и предпочтения: тогда, возможно, и удастся найти средство, позволяющее предотвращать зарождение испорченных вкусов.
Впрочем, Ваш невзлюбивший поэтов знакомый мог бы возразить, что не его вкус является испорченным, а само сочинение стихов представляет собою ущербное занятие. Зачем, мол, использовать возвышенный язык, на котором не говорят в обыденной жизни, применять затейливые метафоры, которые в обыденной жизни не применяются, возиться с рифмами, размерами, аллитерациями и ассонансами, без которых можно прекрасно обойтись в будничных разговорах? Этому выпаду мы противопоставим тот несомненный факт, что обыденная речь вовсе не является единственно возможной, в противном случае мы были бы не в силах выразить большинство наших душевных состояний. Человек, пользующийся исключительно будничной речью, то ли сознательно обедняет себя, то ли наделен от природы особым умственным либо физическим недостатком, не позволяющим ему воспринимать язык поэзии. В первое предположение трудно поверить, ибо это все равно что отказываться от пищи здоровой и вкусной, предпочитая ей вредную и убивающую аппетит, и выставлять основанием подобного безумия нежелание тратить силы на стряпню. Второе предположение, бесспорно, куда более правдоподобно, однако в таком случае невосприимчивость к поэзии следует считать умственным либо физическим уродством, а отнюдь не делом свободного выбора. Соответственно человек, лишенный природной способности понимать поэзию, должен в обществе поэтов проявлять скромность и выказывать им всяческое почтение, а не кичиться своим убожеством, словно чем–то выстраданным в итоге напряженных духовных исканий.