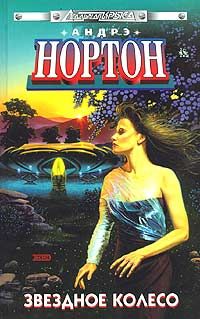Андрей Матвеев - Частное лицо
К Нэлиной двери он подходит уже часов в пять. Ветер принес с собой снег, голова вся мокрая, уши пылают. Нажимает кнопку звонка и со страхом ждет, что произойдет. Правда, к страху примешивается любопытство. Дверь открывает незнакомая женщина и пристально смотрит на незваного визитера. Он тушуется, но все же, экая, мэкая и бэкая, спрашивает, живет ли здесь Нэля. Нет, отвечает незнакомая женщина, но потом продолжает: она недавно переехала и есть адрес. Где, спрашивает он с нетерпением. Женщина захлопывает дверь, а открыв через некоторое время, протягивает ему бумажку. Спасибо, говорит он, сбегая по ступенькам. Его не удостаивают ответом, и дверь вновь захлопывается.
Он смотрит на бумажку. Незнакомая улица, это новый район, но как туда добираться, он знает. Правда, пока доберется, будет совсем поздно, но это сущая ерунда. Реальности для него больше не существует, как не существует и ветра со снегом, и города вокруг — есть лишь потребность увидеть Нэлю, пусть на минуту, на какое–то мгновение, все остальное рассыпается как неловко построенный карточный домик. Он проверяет, что с пластырем, и обнаруживает, что тот почти сухой — видимо, кровь опять перестала идти.
Вновь добирается до трамвая, через несколько остановок выходит и пересаживается на автобус. Заметая следы, скрывается от преследования. Тип–топ, прямо в лоб, по обочине хлоп–хлоп. Автобус идет долго, хочется спать, голод опять дает себя знать. Выходит в какой–то аэродинамической трубе с двумя рядами бетонных коробок. Длинными рядами. Двумя длинными рядами. Ни деревца, ни одного черного, оголенного зимой ствола. Смотрит на бумажку с адресом, до нужного дома надо проехать еще одну остановку, ничего, дойдет и пешком. Ветер бьет в спину, снег сыплет полными пригоршнями, кажется, что палач вновь замаячил за спиной. Нужный дом, вход в подъезд со двора. Проходит сквозь арку, быстро находит искомое и нажимает кнопку лифта. Пахнет кошками, табаком и чем–то еще, большая бетонная громада, усыпальница душ и сердец. Выходит на пятом этаже, оказывается, что надо подняться еще на один. Опять взмок, нет сил нажать кнопку звонка. Весь день двери, весь день серость и сырость, сырость и тлен. Дверь открывает Нэля и замирает в освещенном дверном проеме.
По замыслу положено отточие. Дальше идет фраза: у нее странно испуганные глаза. Это, пожалуй, единственное, что как–то отличает ее сегодняшнюю от той, что ушла два года назад, весело помахивая сумочкой. Боится? Но чего? — Проходи, — говорит шепотом. В тренировочных брюках и свитере, домашняя и очень обыденная. О-о. Он проходит в прихожую, она прикрывает дверь в комнату и сердито спрашивает: — Ты зачем пришел? — Он пытается что–то сказать, но в горле лишь клокочет и булькает, левая сторона груди вновь становится влажной, пора менять пластырь. — Что–то серьезное? — Он кивает головой. — У меня дома свекровь, — объясняет Нэля, — так что подожди на улице, — Он выходит на площадку, в спину подгоняет детский плач, «Что же, — думает он, спускаясь обратно в лифте, — так и должно было случиться, все идет так, как и должно идти. Она замужем, у нее ребенок. Ненавидеть и любить ее больше нет смысла. Она стала другой, пусть, вроде бы, и не изменилась. Хотя, впрочем, откуда мне знать, как она изменилась?» Лифт останавливается на первом этаже, и он вновь оказывается на улице. Вновь ветер и снег, и он понимает всю бессмысленность своего желания. Побыть рядом. Просто побыть рядом. Вопрос: зачем? Ответ: незачем. Нэля выходит из подъезда минут через десять, он уже снова успел замерзнуть и стоит, подпрыгивая на одном месте.
— Ты чего так замерз? — Объясняет, что утром было тепло, а сейчас уже семь вечера и… — Ладно, — говорит она, — пойдем, посидим где–нибудь в кафушке, деньги–то у тебя хоть есть? У него было рубля три, может, и четыре.
— Как всегда, — говорит Нэля и проверяет, взяла ли с собой кошелек. Кошелек она взяла, и они короткими перебежками — ветер все усиливается — добираются до стеклянных дверей кафе. Народу, на удивление, немного, и им сразу же удается сесть. Столик в углу зальчика, почти у окна, она заказывает по второму, бутылку вина и кофе. — Как ты живешь? — спрашивает он, отогревшись. Она поднимает лицо от тарелки: — Что, ты только за этим меня и вытащил?
Он краснеет и сбивчиво начинает рассказывать, что произошло сегодня с утра. Нэля маленькими глотками пьет красное сухое вино, ее лицо становится холодным и равнодушным.
— Ну и дурак, — говорит она, когда он заканчивает рассказ. — Надо было сразу им все рассказать, тогда бы они от тебя быстрее отстали. — Достает из сумочки сигареты и мундштук, собирается закурить. — Курят только в холле, — бросает на ходу официант с подносом, идущий к соседнему столику. Нэля что–то бормочет и предлагает ему выйти покурить. Он сдался, он опять убит и раздавлен, все бесполезно, этот крест надо нести одному. В безвыходной ситуации нашел самое бесполезное решение. Гусь свинье не товарищ, Богу — богово, а кесарю — кесарево и прочая, прочая, прочая. Впрочем, чего он хотел? Что она зальется слезами и бросится ему на шею? Что скажет, что он был прав, снимет с него все грехи и возьмет на себя? Что пожалеет его, погладит по головке, обласкает и уложит спать? Что она просто способна понять его?
Вновь холодная волна ненависти. Тонкая шея, которую так хорошо можно сдавить своими крепкими и сильными пальцами. Еще недавно юношескими, а теперь мужскими. Восемнадцать лет, достиг избирательного ценза. И отсиживать будет во взрослой зоне. За что, пацан? За убийство. Дай спичку, просит Нэля, садясь на подоконник. Он зажигает ей спичку и смотрит, как она ровно и ладно прикуривает, аккуратно склонив свою стриженую голову. Только сейчас он замечает, что она подстриглась, что груди ее стали больше и круглее, да и сама она как–то округлилась и стала еще женственней, чем два года назад. Значит, изменились не только глаза, значит, она действительно изменилась и сейчас рядом с ним просто другой человек.
— Ты дурак, — продолжает Нэля, пижонски пуская дым из ноздрей. — Какого черта ты вообще связался с этой компанией? — А что мне было делать? — с недоумением отвечает он. — Ну конечно, — смеется она, — сейчас ты скажешь, что это я виновата, бросила тебя, вот ты и пустился во все тяжкие…
«А ты права, — думает он, — это я и собирался сказать», но говорит совсем другое, вновь пытается объяснить, что ничего страшного и недопустимого ни он, ни кто–либо из его друзей не сделал.
— Конечно, не сделал, — отвечает Нэля, — но ведь это никого не …т (цензура выбрасывает три буквы: две орально–генитальные «е» и увязшую в интромиссии «б»). Им нужен план, вот они и взяли вас на заметку. А чего ты еще хочешь в этой стране? — А потом продолжает: — И ты думаешь, что все, отмазался? Так ведь сейчас за тобой всю жизнь будет хвост тянуться, тебя и дальше будут мордовать, а ты еще ко мне приперся!
Она вновь матерится, спокойно и деловито, потом достает новую сигарету, разминает ее и вставляет в мудштук. — Я‑то тебе зачем понадобилась?
— Не знаю, — искренне отвечает он, — сейчас просто не знаю… — Боже, ну и дурак же ты, — опять говорит она и вдруг каким–то совершенно материнским жестом гладит его по голове. Он отшатывается, она вздрагивает, будто читает в его глазах все то, что он так никогда и не скажет ей.
— Так получилось, — очень тихо и умиротворенно говорит она, — я знаю, что здорово тебя помучила, но так получилось, прости меня, если можешь.
Он мог бы сказать, что прощать ее не ему, что если кто и простит, то лишь Господь, но вместо этого он опускается на колени прямо здесь, в грязном, давно не мытом холле небольшого окраинного кафе, берет ее руку и целует.
— Встань сейчас же! — испуганно командует она. — Этого еще не хватало! — На ее щеках появляются красные пятна, видимо, разозлилась не на шутку. — Пойдем за столик, — говорит она, приканчивая вторую сигарету.
Они возвращаются за столик. Вина еще больше, чем полбутылки, не оставлять же, так что посидим, допьем, ладно? Он кивает, хотя ему хочется одного: встать и уйти, дойти до автобуса, потом пересесть на трамвай или на другой автобус, зайти домой и рухнуть спать. Устал, дьявольски, нечеловечески устал, да и пластырь пора менять, весь намок от крови, да и мать беспокоится, ушел в восемь утра, а уже почти девять вечера, все же надо было позвонить. — Так как ты живешь? — равнодушно спрашивает он Нэлю.
Она говорит, что все нормально, что сыну уже год, муж сейчас в командировке, помогает свекровь, сама только вышла на работу, хотя декрет еще не кончился, но нужны деньги, работает секретарем–машинисткой, так что вдвоем с мужем зарабатывают нормально. Нельзя сказать, чтобы много, но хватает. Треп, говорение просто так за недопитой бутылкой красного сухого вина. Двое старых знакомых, которые давно не виделись. Двое коверных, белый и рыжий, одного зовут Бим, другого — Бом. — Здравствуй, Бим! — Здравствуй, Бом! — Что это у тебя с головой, Бим? — Да ничего, Бом, ее просто нет. — А куда она делась, Бим? — Ее отрубил палач, Бом. — А где ты его взял, Бим? — По блату, Бом! — Дружный хохот восторженных зрителей, цирковой оркестр играет туш.