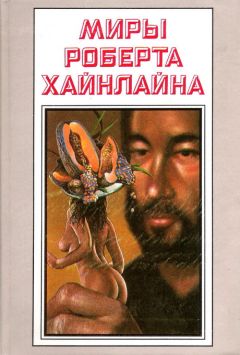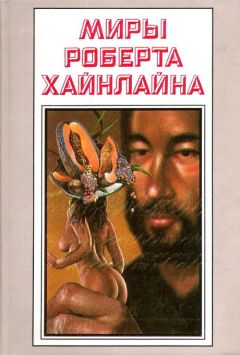Анастасия Цветаева - AMOR
Из соседней комнаты о закрытую дверь несся заливчатый, колокольчатый голосок:
— Мама! Вы победили Андрея? Вы победили?! Уложили его, да? Чтоб не смел вставать! Ведь я не вставал, когда был больной?
— Я не встану больше, Сереженька, я — лежу… — отзывался, смеясь, Андрей.
В эту странную, совсем не похожую ни на что семью — пришло письмо сестры Глеба, той русалкообразной девушки, с которой когда‑то были ночи бесед в Никиной комнате в антресолях отцовского дома и вечера прогулок по межам и лугам хутора Глебова отца. Она просила найти ей комнату — она пробьется сквозь военные события с маленькой дочкой и приедет к Нике, вместе жить, вместе растить детей. С мужем она разошлась, горько в нем разуверясь… Но письмо было даты давней, о пути сюда или даже об ответе думать не приходилось. (В следующий раз, когда весть о писавшей достигла Ники, — это была весть о смерти её, уж давно совершившейся, быть может, через год, полтора — после её к Нике письма, — от сыпного тифа…)
И пришло письмо от когдатошнего друга матери Ники, туберкулезного, в ту зиму её леченья в Италии, любовь к которому мать Ники превозмогла именем долга, семьи. Он писал, что прочел напечатанный в давнем журнале отрывочек Никиных воспоминаний детства, где был упомянут он, и глубоко взволновался: "Я любил твою мать и люблю её до сих пор, это был большой человек, помни это! Будь такой, как ты есть, будь собой, но не забывай, что ты — её дочь: это обязывает. Я пишу тебе из Москвы. Я здесь после двадцати лет изгнания из России царской властью. Но при встрече с новыми людьми все иначе, чем ждёшь, и я болен, и с переездом, со сменой климата, со многим — трудно справиться, и мне много лет. Мама, прощаясь со мной, зная, что мы уже не увидимся, мне поручила тебя, сказав, что твой отец занят наукой, а родные от тебя далеки душевно. Не смог я этого, потому что вы жили в Москве, а мне, как царскому каторжнику, был запрещён въезд в Россию. Но здесь, где есть люди, знавшие твоих родителей, мне особенно не хватает тебя. Нам надо увидеться…"
Это письмо пришло, когда врачи уже позволяли вставать больному. Оно тоже шло много месяцев. Если бы не Андрей, в какой тоске была бы она! Теперь все к Андрею тянулось, все в нем тонуло. Она рассказывала ему о сестре мужа, о детской любви своей к другу матери. Письмо его было дверь в её детство. В него шагнул Андрей, а так как сын тоже хотел слушать, перешли втроём на ковёр в бывшую Никину комнату, среди диванных подушек, по–татарски, в рыжих закатных лучах, потом — лунных, Ника долго водила двух мальчиков, большого и маленького, по дорогам своего детства. Пили кофе и чай из маленьких чашечек, ели последние — их уже больше сюда не везли — турецкие апельсины.
Прошла ещё неделя, и ещё одна, и ещё, боли у Андрея уже прочно кончились, он выглядел поздоровевшим. С хутора приехал отец, посланный матерью с сообщением, что без "панича", как звали там Андрея, хозяйство пришло в упадок, мать не умела ладить с управляющим (отец же был вообще далёк от хозяйства, ироничен к нему, "вольтерьянец"!). На семейном совете будут решать, когда и как ехать в Симферополь на операцию, приготовят Нике с ребенком и няней комнату. Это было первое расставание за много недель.
Было так странно пусто, когда Ника, проводив Андрея с отцом с горки, где стоял её домик, вошла в давно ею не замечаемый дворик. Длинная золотая полоса холмов тонула в бледном вечернем море…
Ей показалось, что остановилась жизнь. Торжественноугрюма была нянька, и вдруг страх обуял Нику, что сейчас Андрей начнет делаться в ней — призраком.
— Сережа! — крикнула она в отчаяньи. — Мы с тобой сейчас все переставим в доме — хорошо?
— Все? — вбегая, ответно закричал ребенок и с разбегу стал на голову от восторга. — Ура!..
Под его птичьи крики восхищенья о разрушении старого мира они через полчаса вошли, усталые, в дом (нарочно выйдя из него на минуту во дворик!). Все изменилось как по волшебной палочке. Сережина комната стала вновь маминой, Андреева — снова Сережиной, и все вещи стояли по–новому: иначе висели ткани, иначе лежал ковёр — мамино "логово" (слова из "Маугли"!), и первый луч ещё молодой луны, лежавшей вчера на столе и на книжной полке, сегодня лежал на широком пустом полу, комната отступила куда‑то. И было грустно, одиноко и празднично, как после ухода гостей в воскресенье. Сережа уснул, как в канувшие годы раннего детства, — мама пела ему, рассказывала всякий вздор, а потом у обоих глаза были в слезах от воспоминаний об Алёше. Луна стояла высоко, и где‑то далеко, настойчиво и печально голос татарина напевал "Хайтарму"…
С ночи задул норд–ост, нашли тучи. Ника легла на своем низком одиноком ложе, она давно не лежала так — спала все эти недели, прикорнув возле Андрея (то на коленях, боясь его потревожить, то рядом с его кроватью — на стульях). Лампа, потухая, горела на опрокинутом ящике, покрытом стареньким гобеленом ещё из отцовского дома… Она лежала, слушая далёкий рев моря, крепчавший свист ветра, и, так как лампа совсем гасла, она дунула на нее. И тотчас же раздался стук калитки, и кто‑то быстро вошёл по ступенькам. Дверь дёрнули, легкий крючок соскочил, и, подняв от подушки голову, Ника увидела в лунной раме распахнутой двери четкий очерк невысокого человека, в плаще. Она бросилась навстречу — точно не виделись годы!
Он поднял её на руки как лучший трофей своей жизни. Губы к губам, тихо:
— Я не мог не вернуться, Ника! Я отложил отъезд — до утра…
ГЛABА 5
ОТРАДНОЕ
— Хутор наш когда‑то назывался "Светлая роща" — по-татарски. Но моя мать переназвала его в "Отрадное", взяв это слово из "Войны и мира", помните, — там любовь князя Андрея и Наташи Ростовой? По привязанности к этому роману она и меня назвала Андреем…
"Оазис посреди крымской степи", — сказал Андрей. Это, собственно, рай. Амбары ломятся от плодов, ещё цветут поздние розы, и стоит та самая осень, которую золотом и синевой писал Левитан. Старый дом, низкий, длинный; книги, рояль, жерла печей, где рушатся в пламя горы соломы; поездки верхом в степь: у Ники рыжая лошадка Франческа; они едут шагом, доктор и она иначе не позволяют, черный — норман — понимает, что хозяин доверил ему свое перестрадавшее тело, он ступает бережно, он — друг.
В саду цесарки, фазаны, и всюду собаки и кошки, а на столах — сыры, брынза, масло, окорок, мед, вина, абрикосы, груши, орехи. На армане — золотые соломенные коридоры, где один раз почти заблудились "панич" и его подруга. В жаркие часы, полуденные, серебрятся по горизонту миражи — плывут пароходы на несуществующем море и отброшены в воздух татарские сакли где‑то^ в дали утонувшей деревни Ортай.
Ника и Андрей не расстаются. Но на стене его комнаты, теперь их спальни, — дышит не менее живой, чем они, жизнью, портрет Елены — кисти Андрея. Сизо–синее платье полукругом оттеняет белизну её шеи, обводит плавный спуск плеча. Пышность темных волос спадает назад волной. Синева глаз таит таинственную радость, губы вот–вот засмеются. До чего хороша! Но какой же Андрей — художник, это создавший… Андрей предложил — снять его, перевесить в другую комнату. Ника, естественно, отклонила. Она не смеет сознаться себе, что она от портрета — страдает. Но разве она сможет допустить, чтобы Андрей его снял?
Светлая роща, да! Сколько в этом саду света, брошенного солнцем и осенью на рвущиеся в ветер деревья, в вихрь их оттуда срывающий и несущий по саду, над садом, над Сережей, бегущим с собаками вокруг низкого, скромного дома… С минуту Ника стоит оторванная, как лист, от всего: этот дом напоминает — другой, в воронежской степи, куда, оставляя её тосковать по калужским холмам над Окой, уходил Глеб, как гоголевский казак, в свою степь влюблённый… Сереже там был — год, не помнит!
Раскрыв дверь в сарай, в луче солнца, Андрей зовёт её — пировать: груды яблок и груш невиданной величины и расцветки! Не успевают раскладывать урожай плодов! Абрикосы, персики, в зеленой ещё шелухе — орехи. А поздние розы! Аллея роз!
Счастье по часам дня идёт, как по ступеням лестницы, — вглубь: вечер, захолодало. Вороха соломы завалили прихожую, где топится печь: станет тепло в столовой и в маленькой комнатке рядом (тут жила Сильвия…). И в раскрытую дверь тепло на теплых лапах войдёт — хмурящийся на огонь Гри-Гри — великолепный кот, темно–тигровый.
Жарко! Печь — как чуланчик, высокий, и темный, и пустой каждый раз, как дают соломе сгореть. Ника просит чуть-чуть подождать, упиться шорохом огнистого низа печки, мгновенно темнеющего под опустевшим сводом, унесшим огонь вверх, — такого она не видала; и снова летит в печь сноп, вспыхивая, празднуя неистовое объятие огня, рев трубы (в саду — ветра), и уже стих россыпью тлеющих стебельков; периной упругой, пышущей, шепчущейся; внизу — черно–красной.
Блаженно греются люди и кошки — Гри–Гри и Тигричка — на полу озаренной прихожей. Пятнаддатилетняя Марфа — бело–черная! и её сын четырнадцати лет — пучеглаз. Лицо Андрея изваяно из меда — огнем.