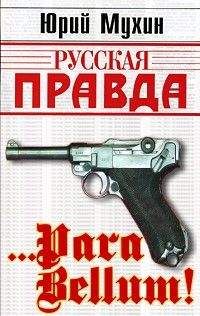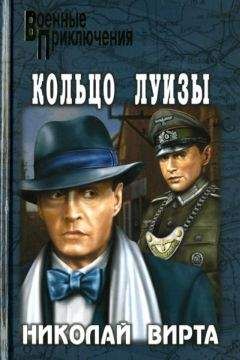Владимир Карпов - За годом год
— А разве это плохо, если ты не кислятина? — ответила она, не придав значения его словам.
Не знаю… Но в жизни всегда найдется такое, что стоит отрицать. Может быть, самое необходимое в человеке чувство — неудовлетворенность.
— Ну и что из того?..
Василии Петрович, пожалуй, не ошибался. Правда, принимая жизнь такой, какая она есть, Валя всегда надеялась, что настоящее, полное счастье впереди — оно ждет, зовет. И к нему надо стремиться. Но большие надежды и ожидания мешали Вале серьезно разобраться в окружающем. Они многое заслоняли.
Алешка!.. Он не оставлял Валиных мыслей. Он часто словно шел рядом — и когда, всухомятку позавтракав, она спешила на лекции, и когда, усталая, возвращалась в общежитие, чтобы через час опять торопиться на собрание, на дополнительные занятия, на субботник. Он был где-то близко, когда Валя, подперев виски кулаками, углублялась в книгу, сидя в маленькой, всегда переполненной читальне. Он, казалось, стоял обок и тогда, на Троицкой горе, присутствовал в больнице…
Слова Зимчука, какая-то непоследовательная его добродетель вызвали в Вале протест, заставили встать на защиту Алешки, хотя она знала про него много зазорного. Еще в первые дни освобождения слышала, что тот с компанией на "студебеккере" выехал в пригородную деревню, где до войны был совхоз, и приказал согнать бывших совхозных овец. Переписав их и выбрав самую жирную, погрузил ее на машину, предупредив, однако, сельчан, что те головой отвечают за остальных. Когда же Валя возмутилась его поступком, захохотал: "Где ты живешь? На земле аль где? Посмотри, что другие делают! Пианино таскают, ковры… Иван Матвеевич вон занял себе особнячок со всем готовым — и неплох. Заплатит по твердым ставкам за вещи райфинотделу и будет, как у христа за пазухой. А я что? Мне про запас не надо. Детишкам на молочишко, и хватит…"
Нет, его можно было упрекать во многом, но не в гаденьких расчетах. Он отроду не знал ни жадности, ни далеких прицелов. Натосковался за войну по человеческой жизни и захотел наверстать, пожить свободно, не особо задумываясь над чем-нибудь. И если уж говорить правду, то это лучше, чем Урбанович. Алешка хоть невольником самого себя не становится. А перегорит излишек сил — и может заблестеть, даже засиять. Его не гнетет никакая тяжесть, как Урбановича. Этот же, кажется, сам себя в неволю уже продал. И если Иван Матвеевич думает, что Алешка делец, а Урбанович беззаветный труженик, — это он просто не в ладах с правдой. Алешка отнюдь не пропащий.
Но чаще Валя думала о нем в иной связи. Он вспоминался ей удачливым и безрассудно смелым, когда действовал где-то на грани легенды — в подполье. "Оценили меня, море широкое! — хохотал он. — Дают только за одну голову махорки, спирту и десять тысяч марок! Хоть ты сам к ним иди и сдавайся. Вот черт!" Завитки волос на его голове тряслись, как бубенчики, загорелое лицо сияло. Валя вспоминала свое первое знакомство с Алешкой, когда тот в форме полицая явился на конспиративную квартиру и потребовал у нее документы. А потом, потыкав пальцем в Валин паспорт, въедливо сказал: "Я так и знал — липа. Ваши не учли одной мелочи: орла на печати повернули головой не в ту сторону…" И еще одно часто вспоминалось — лестничная площадка в коробке напротив городской управы. Валя несколько раз ходила теперь туда и никак не верила, что это было: жандарм на перекрестке, у подъезда управы сытый в яблоках конь, запряженный в легкую пролетку, и немецкий холуй, который показался в массивных дубовых дверях, услужливо раскрытых швейцаром. Чтобы перехватить пролетку, надо было пробежать квартал, и они побежали. И, может быть, только прикосновение Алешкиных рук возвратило ей тогда самообладание… А позже? Когда убитый предатель валялся на мостовой, а они, как было условлено, бросились в разные стороны, Алешка задержался. Зачем? Безусловно, в случае чего отвлечь погоню на себя… Нет, так не мог поступить ни хитрец, ни ветрогон, ни… как еще его там называл Зимчук. А что срывается, хулиганит, то это от гордости, оттого, что не везет и обижают…
На днях ее вызвали в Верховный Совет получать орден. С утра надев лучшее платье, она прямо с лекций побежала в Дом правительства. И пока заполняла анкету, а потом, притихшая, ожидала в строгом зале — рассматривала его, вместе с другими слушала наставления молодого, но лысеющего работника наградного отдела, как вести себя во время вручения наград, Валя не теряла на дождь", что вот-вот откроются двери и она увидит своих товарищей, Алешку. Но они почему-то не приходили, и вокруг были только незнакомые люди. Улучив момент, она позвонила Зимчуку — не ошибка ли? Но в ответ услышала его маловразумительные, сердитые слова. Ей показалось, что он даже ахнул от неожиданности и досады…
Так созрело решение сходить к Алешке, увидеть его, поговорить.
Валя поднялась по заснеженной лестнице на второй этаж, остановилась возле обитых соломенным матом дверей и огляделась. Снег лежал на лестничной площадке, как на крыльце. По лестнице была протоптана уже пожелтевшая тропинка, по которой Валя и поднималась сюда, но выше, на ступеньках, лежал снег нетронутый, покрытый слюдяной ноздреватой коркой.
Валя отряхнула с ботинок снег и постучалась.
— Давай заходи! — послышался голос Алешки.
В клубах холодного воздуха она переступила порог, забыв, с чего собиралась начать разговор.
Алешка сидел на табуретке возле кровати и протягивал ложечку бледной старой женщине, лежащей на высоко поднятых подушках.
— Сегодня отменяется, — не оглянувшись и приняв Валю за кого-то другого, сказал он. — Мать опять захворала. Да ноги вытри, наследишь еще.
Женщина отвела его руку, и худенькое, морщинистое лицо ее озарилось радостным удивлением:
— Ко-о-стик, — почти пропела она, — ты сначала погляди, кто пришел до тебя! Ах, детки мой, какая же ты молоденькая!
Алешка медленно повернулся к двери, держа ложечку на весу. Увидев Валю, оторопел.
— Разольешь, Костик, — певучим голосом предупредила старушка, будто была рада, что с ложечки капает красно-коричневая жидкость.
— Я к тебе, Костусь, — сказала Валя, пораженная тем, что тут все не такое, как представлялось, и даже сам Алешка иной.
Идя сюда, она даже не подумала, что у него может быть семья, что он живет не один, и потому не знала сей час, как держаться, что говорить. Но, взглянув на старушку, на ее выцветшие, но еще ясные глаза, убедилась — бояться нечего.
— Проходи, детка, — пригласила та. — Костик, чего же ты? Предложи сесть…
В комнате было чисто и почти все белое: потолок, стены, накрытые кружевными, своей работы, салфетками и скатертями вещи — стол посредине, швейная машина у окна, рядом деревянный диван, над которым на стене висел велосипед. Красный угол завешен вышитыми полотенцами. Возле порога и у кровати — круглые, сшитые из разноцветных лоскутков половички.
— Почему ты, Костусь, не пришел по награду? — спросила Валя.
— Свою я в любое время получу.
— Я так и знала! Значит, ты сознательно?
Алешка не ответил.
— Я объясниться пришла, — сказала Валя, садясь на диван боком, чтобы не стянуть со спинки белоснежную дорожку.
— И-и-и, детки, милки мои! — пропела старушка. — Кто кого любит, тот того и чубит, Валечка…
Она назвала ее имя! Валя почти испугалась, хотя было приятно, что ее знают. Избрав старую женщину судьею, уверенная, что та может судить только по справедливости, Валя торопливо заговорила:
— Костусь должен сказать мне правду. Я хочу знать правду. Почему он делает так? Крутит, а не живет, как все?
— Охти мне! Вот наказание! — заволновалась старушка. — Аль снова нашкодил? Как маленький! Костик, почему ты молчишь?
— Каюсь, мама, — сказал Алешка, становясь обычным — насмешливым и независимым, — каюсь и полагаю: человек не лыком шит.
— Чего городишь? В чем каешься? Говори же…
— Во всем, мама! Что живу, например, дышу, что воевал не хуже других… Что отвернулись те, на кого молился раньше, ха-ха!..
Все же он смотрел на Валю доверчиво, по-своему оценив то, что она пришла, готовый все превратить в шутку, все простить. И только присутствие матери сдерживало его от больших вольностей.
— Я люблю. Валя, критику. И расту. Для тебя специально, ежели хочешь, — отрубил он с насмешливой серьезностью. — Скоро вот начальником стану. И не простым, а в вашем химкорпусе. Остались на свете еще добрые люди. Знаешь Кухту?
— Ты снова, Костик, за свое.
— А что делать, ежели чересчур в рай хочется? Хвалите хоть вы меня, мама, если люди не хвалят.
— Послушал бы, что о тебе говорят, Костусь. Комбинатором называют. Говорят, ты тут, в коробке, обосновался, чтоб потом спекулировать на законах. Правда это?
— Ай… Разве ты не знаешь?
— Я, кроме того, еще про овечек знаю… про склад…