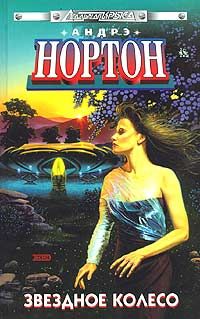Андрей Матвеев - Частное лицо
Они познакомились год назад, как раз тогда, когда она разводилась с мужем. Да (вздыхает), это было страшное для нее время, она даже подумывала о самоубийстве, но, конечно, не решилась (снова вздыхает). Галина работала на ее прежней работе фотографом. Они общались. Сначала на службе, потом — домами. Месяца два все шло нормально (к этому времени она уже развелась). Но потом как–то раз засиделась у нее в гостях, было поздно, а идти ночью домой страшновато, пусть и живут, как он знает, поблизости. Галина предложила остаться, они еще долго сидели, пили кофе, распили на двоих бутылочку сухого вина, потом стали ложиться спать. Галина постелила ей вместе с собой на диване, она легла и сразу заснула, а проснулась от того, что ее кто–то целует. Ну и… Да, она не устояла, но ведь ее просто совратили, он–то должен понимать, что она абсолютно нормальная женщина, а такое может случиться с каждым, неужели он никогда не грешил с мальчиками?
— Пока еще не успел, — ответил он, и это была чистая правда. А потом добавил: но ведь ты–то не девочка!
— В этом все дело, — грустно ответила Нэля, — Галина просто воспользовалась тем, что я осталась одна, без мужа и ласки, подкралась ко мне как змея и обвила своими кольцами…
Он видел, что ей самой стало себя жалко. Сейчас заплачет, решил он. Так и есть. Несколько раз она плакала при нем, и это всегда вызывало и жалость, и нежность, и какую–то странную грусть. Так случилось и сейчас. Он провел рукой по шее: все на месте, голова пока что не отделена от туловища, но палач ждет за дверью. Да и игла уже прошла сквозь сердце и вот–вот да выйдет со стороны груди. — Врешь ты все, — бесстрастно заметил он.
— Конечно, — говорит, вытирая слезы, — ты можешь не верить, но если бы ты знал, что она начала меня шантажировать! Ведь она фотограф и десятки раз снимала меня голой, да еще ставила аппарат на автоспуск и снималась вместе со мной. Думаешь, мне хочется, чтобы кто–нибудь увидел эти фотографии? — А сейчас?
— Я выкрала негативы, — бесцветным и усталым голосом объясняет Нэля, — несколько дней назад. Я знала, что Галины не будет ночью дома, она уезжала к матери, в другой город, а у меня был ключ. Пришла вечером и рылась до утра, но нашла. — Где? — зачем–то спросил он. — На кухне, в банке с гречневой крупой.
Он представил, как Нэля обшаривает ночью квартиру своей подруги по интимным радостям, и ему захотелось сказать, что место ей в дурдоме. Какое–то идиотство, плохо закрученный шпионский роман. Сцена, которую стоило бы вычеркнуть из рукописи. Он ничего не понимает, он знает лишь одно: все кончено, со временем палач сделает свое дело и отправится к окошечку кассы получать честно заработанные деньги. Но друзьями они не останутся. Они просто не смогут остаться друзьями, ведь как забыть ее тело и все то, что оно давало ему. — Что ты сделала с пленками? — деловито спросил он. Она покорно взяла сумочку, открыла и протянула ему две завернутые в серебряную фольгу катушки: — Посмотри, если хочешь.
Он покраснел, но катушки взял. Развернул одну и начал смотреть на свет. Галинино тело было в чем–то даже красивее, крупнее и рельефней. Нэлино не вызывало в нем никаких чувств. Он смотрел на эти маленькие кадрики и понимал, что почва окончательно уходит из–под ног, ему надо было отказаться, надо было дать ей пощечину, обозвать распутной дурой и блядью. А он стоит и рассматривает то, как его любовница (надо набраться смелости перед самим собой и произнести это слово) занимается любовью со своей же подругой. Судя по всему, увлеченно и со смаком. Практически так же увлеченно и со смаком, как и с ним. Галина совратила Нэлю, Нэля заволокла его к себе в постель. Он был невинен, теперь же заляпан грязью, если чего и ждал, так это совсем другого. Он ждал любви, а оказалось, что это только постель. Причем — на троих. Пусть попеременке, но на троих.
— Возьми, — сказал он, брезгливо протягивая ей негативы обратно. Тела на них были черными, белая простынь тоже получилась черной. — Вы как две негритянки. — Нэля плотоядно захохотала. Опять захотелось сдавить ей шею и делать это так долго, сколько понадобится. До последнего вздоха. Он любит ее, но должен ее убить. Любимая оказалась ведьмой–перевертышем, если он убьет ее, то она возродится вновь во всей своей чистоте. — Ты их сожжешь? — спросил он.
— Зачем? — удивилась Нэля. — Галина мне сейчас не страшна! Ему стало противно, он ощутил комок тошноты в желудке, но смог его удержать.
— Мальчишка! — как–то презрительно сказала Нэля. — Ты что, думаешь в этом мире можно как–то иначе? Все только и делают, что пытаются нагреть друг друга, подставить ножку, попользовать. Не я первая, не я последняя. Любовь и чистота хороши в романах девятнадцатого века, постарайся о них забыть. — Лицо у нее осунулось, зубы оскалились в непристойной гримасе. — Я ведь тоже лишилась невинности в шестнадцать лет, и тоже любила, и даже вышла замуж. Но… — и она махнула рукой. — Сначала употребили меня, потом я употребила тебя, сейчас твоя очередь!
Ему стало страшно, ему захотелось бежать. Он никогда не видел Нэлю такой циничной, опустошенной, очень и очень злой. Нет, убивать ее нельзя, подумал он, ее надо жалеть, хотя страшно, хотя хочется бежать. Он обнял ее и начал целовать в губы, глаза, щеки, шею, волосы. Нэля покорно подставляла лицо, мокрое от слез, ему казалось, что все — и спица, игла, заноза, и топор палача, и держащая его потная, мускулистая, волосатая рука — лишь какая–то неясная тень на этом чистом и солнечном дне. Как жаль, что они не у нее дома, а здесь, в этой дурацкой маленькой комнатке, из которой выход ведет прямо в зал книжного абонемента, и там сидит милая интеллигентная дама, цербер на страже Нэлиного тела. Только тише, шепнула Нэля, расстегнула ему брюки и опустилась на колени. Он почувствовал ее влажный, засасывающий рот, страх прошел, хотелось кричать. Вот мокрая шершавость язычка сменилась острым покусыванием, вот вновь влажное и шершавое прикосновение. Он изгибался на стуле, прикрывая ладонью рот, а Нэля пыхтела, зажав голову между его колен, пока, наконец, кожица перезрелого фрукта не лопнула и ее рот не заполнился густой солоноватой (впрочем, на это есть разные точки зрения) жижицей, Нэля оттолкнула его колени и смачно вытерла сперму с губ рукой. Сперму с губ. Сгуб. В одно слово. Сгуб–сруб, сгубленный сруб, сгубленный–загубленный (можно и срубленный), как срифмовал бы он годы спустя. — Доволен? — каким–то севшим, тихим голосом спросила она. Он не мог говорить, сидел и тяжело дышал. Нэля быстренько подкрасила губы, грудь ее учащенно вздымалась под сероватым рабочим халатиком. Надо посмотреть на себя в зеркальце, надо снова повязать волосы косынкой, улыбнуться, подойти к дверям, повернуть ключ, тихо, чтобы никто не слышал, приоткрыть дверь, выглянуть в зал и спокойно перевести дух.
— Ну? — она оборачивается к нему. — Кончил дурить? Он сдался, ему нечего сказать, он оказался слаб и вместо убийства готов совершить очередное самоубийство. А может, и не готов. А может, уже. Очередное. Безо всякого «Заура о–о–о». Отцовские патроны остались невостребованными. На солнце набежала тучка, полдень давно миновал, интересно, сколько он торчит здесь?
— Уже два часа, — говорит Нэля, поглядев на свои маленькие часики, — мне пора обедать.
Он послушно встает со стула, на котором незаметно для себя оказался во время фелляции. — Ширинку застегни, герой, — уже спокойно и уверенно, с ощущением собственного превосходства, говорит Нэля. Его бьет током. Я все же убью ее, не сегодня и не здесь, может, годы спустя, но я сделаю это, думает, идя вслед за ней через зал книжного абонемента. Здесь он впервые увидел ее. Это было меньше года назад. Меньше года. Меньше. Года. Он увидел ее меньше года назад и стал гадом. Года–гада. Дальше слово награда. Каждому гаду своя награда. Но это тоже — годы спустя. Она снимает халатик, о чем–то ласково говорит с коллегой–библиотекарем. — Я пойду поесть, — доносится до него. — Конечно, Нэличка, конечно. — Она выходит из дверей первой и начинает спускаться по лестнице. Он испуганно оглядывается по сторонам: следов палача не видно, но лучше поостеречься, отсрочить, отложить, отдалить на какое–то время. Сладостно и мучительно ноет натруженный пах. Нэля быстренько сбегает по лестнице, ее крепкие ягодицы заманчиво круглятся под черной шелковой юбкой. Если выстрелить сейчас в нее, то попадешь прямо в спину, пуля засядет в крестце, и она рухнет в самом низу лестницы с долгим и отчаянным криком. Но можно и ножом, вот он летит, посверкивая на солнце, вонзается меж лопаток и следует все тот же крик. Долгий и отчаянный. Солнце окончательно скрывается за облаками, он берет ее голову и целует в холодеющие губы. Сирена милицейской машины. Я любил тебя, Нэля, говорит он, протягивая руки и ожидая лязга наручников. Палач выходит из незаметной двери в соседней стене, бережно прижимая к себе черно–красный футляр с топором: — Что, уже пора?