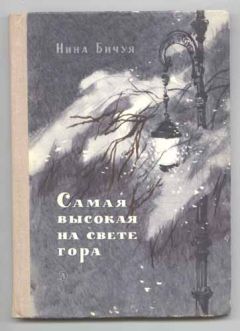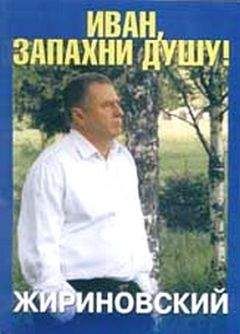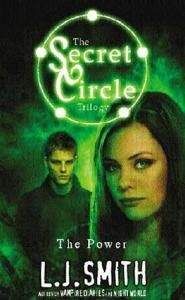Владимир Ляленков - Армия без погон
Заметив их, Холков задерживает шаг, спрашивает меня тихо:
— А это кто такие?
— Мои рабочие.
На фронтоне прибит силуэт поросенка, вырезанный из фанеры, и на нем выжжено: «1957 год». Это дело рук Чикарева. Холков снисходительно улыбается. Аленкин продемонстрировал работу подвесной дороги. Комиссия вошла внутрь помещения. Холков ударяет ладонью по жердям перегородок:
— Каково, Алексей Михалыч? Дворец у тебя, а? На веки вечные построен. Теперь давай хозяйничай, не подкачай.
Баранов что-то отвечает. Пожарник заглядывает в топки печей, что-то нюхает. Забирается на чердак, спустившись, говорит секретарю, что надо бы опробывать печки. Строители часто портачат в дымоходах. Чикинцы моментально растопляют. Тяга хорошая. Свинарник принимают с оценкой «хорошо».
Перед отъездом комиссии я говорю Холкову о положении дел в «Заре» и в «Искре».
— Да, это скверно, — говорит он, забираясь в машину, — мы обсудим этот вопрос. Решим.
На следующий день — заселение свинарника. С утра почти все клинцовцы ожидают на бугре стадо, которое должны перегнать из Зябиловки. Свинарки во главе с Мотей Раевской одеты в синие ситцевые халаты, в резиновые сапоги. Они взволнованы.
— А может, нонче не погонят? — сомневается Мотя.
— Погонят, погонят…
Наконец из лесу показалась пятящаяся задом женщина в коротком рыжем полушубке. В руках она держит кастрюлю, то и дело сует ее под нос громадной поросной свинье. Та движется за кастрюлей, а за ней по тропинке и гуськом тянется все стадо. За стадом человек тридцать зябиловских людей. Свиньи грязны, худы. С длинными мордами, как у борзых собак. У некоторых хребты изогнуты дугой, кожа плотно обтягивает позвонки. Я никогда не видел таких худых, страшных свиней, даже во время войны. У дверей свинарника стадо скучилось.
— Нажимай! — раздались крики. — Со всех сторон! Разом!
Поросная свинья замерла в дверях, насторожилась. Задрала рыло, громко хрюкнула и шарахнулась назад. За ней все стадо.
Около часа люди бились с животными, но загнать не могут.
— Не ндравится им твой дворец, Дмитрич!
— Несите веревки! Веревки давайте! Будем затаскивать по одному. Сами не пойдут.
— Не пойдуть. Мотька, тащи веревки из кладовой!
Появляются веревки. Началось сражение.
Первой затаскивают поросную свинью. Аленкин продергивает веревку у ней под брюхом, человек восемь наваливаются на нее, тянут за ноги, за уши. Чья-то рука ухватилась за хвост, и я думаю, что сейчас хвост оборвется. В воздухе стоит рев и визг. К концу дня свиньи затащены, лежат в стайках. Зарывшись мордами в солому, тяжело дышат. Беда случилась только с одним поросенком. Худой — кожа да кости — и горбатый, он вырвался из людского кольца, по-заячьи поскакал прочь и свалился в овраг. Он поломал передние ноги, и его прирезали.
Потные, усталые и возбужденные люди расходятся по домам. А утром, когда я завтракаю, в избу приходят свинарки во главе с Мотей.
— Борис Дмитрич, не надо нам машины. Устройте нам котел, — заявляет Мотя, — такой котел, как и в Зябиловке!
— Какой машины не надо?
— Запарника этого с мометрами. Мы боимся его. Котел нам устройте.
— Да вы что, бабы?
Я объясняю, насколько кормозапарник удобней котла.
— Вчера же вам объясняли, как обращаться с ним. Чего же вы молчали? Баранову почему не говорили?
— Да вот молчали, а теперь не хотим. Он может взорваться от пару.
— Кто вам сказал?
— Да сам же председатель вчера говорит: «Глядите за мометром, не пропустите момент, а то взорвется».
— Ну пойдемте, я вам покажу еще раз. Не взорвется он.
— Не надо нам показывать, — Мотя топает ногой, — не надо и все! Дайте нам котел. Не хотим мометров. Или нехай бригадир увольняет нас от этого дела. И сапог нам не надо, и халатов не надо.
— Не надо, не надо, — заговорили остальные.
— Хорошо… Я поговорю с Барановым…
Днем установили в кормокухне громадный котел, привезенный из Зябиловки.
Председатель ругается:
— Черт знает что! Всякое терпение может лопнуть! Спутник запустили в космос, а тут манометра и термометра боятся! Чего ты улыбаешься?! — с ненавистью смотрит он на меня…
Через неделю три поросные свиньи, потрясенные затаскиванием, опоросились мертвыми поросятами.
Аленкин и дедко Серега закопали их в овраге…
Подкралась осень. Моросят дожди. На дорогах непролазная грязь. Даже трактор, тащивший сюда сани с кирпичами, застрял. Он зарылся по радиатор в грязь и простоял в лесу сутки, покуда его не вытянули двумя тракторами.
Я превратился в «ответственное лицо». Как инженер я совершенно здесь не нужен, как организатор тоже. Я здесь должен находиться, потому что, если что-либо случится, нужно кого-то призывать к ответу и наказать. Ну и, конечно, я должен закрывать наряды. Плотники заняты своим делом только у Волховского. Работают они с утра и дотемна. Если они не собьют взятый темп и к двадцать пятому числу закончат стены коровника, у них получится заработок — рублей по сто сорок в день на человека. Это с учетом прогрессивки. Жильем и питанием поспеловцы довольны. Волховской расселил их по два человека в избе. Выписал им мяса, молока. Мясные блюда получают они и утром, и в обед, и вечером. Алексей работает с ними. Когда копали ямки под столбы и траншею для фундамента молокосливной, он собрал человек пятнадцать деревенских парней. И траншея была готова за два дня. Хотя грунт попался каменистый. К стройке прикрепили лошадь, на ней подтаскивают бревна. Представляю, как засуетятся в бухгалтерии, когда туда попадут наряды Поспелова. Возможно, пришлют комиссию для проверки.
Коровник в Заветах уже заселен. И все рабочие, по распоряжению управляющего, переданы колхозу. Они косят овес, копают картошку. Им идет средний заработок, ну и, конечно, командировочные. В колхоз прислали еще студентов из Ленинградского технологического института. Для постороннего, равнодушного человека все это ничего особенного не представляет. Я делаю простой подсчет. Получается, что себестоимость картофеля не меньше стоимости апельсинов, которые привозили из-за границы.
Шестеро студентов работают в Клинцах. Две девушки живут в избе Сергеевны, я уступил им кровать. Обе проучились по одному году. Обе румяные, с пухлыми щечками и симпатичные. Едой хозяйки брезгуют. С отвращением поглядывают на ее тарелки, ложки. Едят только батоны, привезенные с собой, консервы и пьют чай из своих чашек. Я для них — представитель лесной глуши, темный, не знающий городских радостей человек, который задумчиво слушает их лепет о концертах, фильмах. О том, что я учился в Ленинграде, я не говорю им.
Помню, когда я учился, мечтал поскорей окончить институт. Покидал его без особого сожаления. А тут в один из вечеров вдруг очень даже взгрустнулось. Заглянул в домик учительниц. Встретила меня Ленина; личико припудрено, в новом цветастом платье, в котором стала еще тоньше. И под которым едва-едва обозначились груди. Она всплеснула руками:
— Это вы! Что так долго не заходили? Галя вам привет передает, спрашивает, как вы здесь поживаете. И просит передать вам, что она ни о чем не сожалеет. Я не поняла ее. Наверное, что-нибудь не так хотела выразить.
— Почему она не приехала до сих пор?
— Она и не приедет. Прислала директору справку, что больна, просит выслать ей документы.
— Вот как…
Ленина была возбуждена, поставила самовар. Вскоре пришел в домик сын ветеринара Соснина. Мы пили чай, я болтал что-то, Ленина смеялась. Соснин молчал, и я оставил их наедине. На другой день встретил Ленину, когда она бежала от школы к домику.
— Лениночка, — крикнул я, — когда свадьба? Меня пригласишь?
Она засмеялась, сказала «хорошо, обязательно» и убежала…
Славная девушка.
Глава двадцать третья
Оказавшись «ответственным лицом», которое начальство может вздуть за чей-либо проступок, естественно, я поставил перед собой вопрос этического характера: что мне делать, то есть как вести себя?
Если исходить из того, что я все-таки строитель, то должен с утра уходить в Хомутовку. Запыхавшись, появляться там, проверять работу, о которой я заранее знаю, что она хороша. Что-нибудь советовать плотникам, возмущаться какими-нибудь недостатками, без которых невозможно ни одно дело. И о которых плотники знают лучше меня. К полдню я отправляюсь обедать. Потом буду звонить в контору зачем-нибудь. Наконец уеду в Кедринск. Сердясь и возмущаясь, побываю в парткоме, в конторе, заведомо зная, что толку с этого никакого не будет. Делать я ничего не буду, но буду занят, и в глазах окружающих буду выглядеть деятельным, напористым малым. И если случится что-нибудь, начальство не вздует меня, а пожурит.
Можно мне и здесь носиться как угорелому по бригадам, где работают рабочие. Проверять людей по списку. Уяснять, почему нет Иванова, Сидорова, отчитывать их. Самому бросить картошку в ведро. И спешить в другую бригаду и там бодрить людей делом, словом. И опять же: почему я должен подбадривать людей? На основании чего? То, что если картошка останется в земле и сгниет, — ясно любому ребенку. Но почему мои рабочие должны копать картошку? Эпоха, когда людей заставляли работать при помощи горловых связок и палки, прошла. Голые приказы пусть остаются в армии, указами, предписаниями пусть руководствуются юристы. Мысль, логика, расчет — вот после чего начинается работа. Но где логика, расчет, когда траншеи, ямы под фундаменты, выкопанные рабочими, залиты водой, оползают. Выкопав картошку, рабочие вернутся к траншеям, ямам. Будут копаться в грязи, зная, что затраченный ими труд пропал даром. Где логика и расчет? А следовательно и работы нет, а есть бессмысленная затрата сил. Как все объяснить людям? Можно, конечно, ничего не объяснять, плюнуть на все рассуждения и работать вместе со всеми. Я так и делаю: неделю убираю овес в Заветах, неделю копаю с рабочими брюкву, морковь в Вязевке. Сейчас копаем в Клинцах картошку. А вечером — тоска. Читать я ничего не читаю, равнодушен ко всему. Схожу к дедке Сереге, к Аленкину. И там, и там выпью. К Баранову тащиться по грязи не хочется. В сырой темной мгле поброжу у склада. Влюбиться, что ли? Вот в эту юную румяную студенточку. В какую? Их две. А все равно, положим, в Сашу. Рассказать, кто я есть. Привести внешность в порядок, пустить пыль в глаза… Не я, так кто-нибудь другой все равно обманет… Жениться? Построить себе избу, обзавестись хозяйством, послать ко всем чертям трест и жить в деревне. Буду здесь вершить строительные дела… Иногда, покуда Сергеевна не «забралась на насест», как она говорит, ложась спать, слушаю ее рассказы. Оказывается, старуха Васьчиха слывет колдуньей. Она может поссорить мужа с женой, приворожить мужика к девке и наоборот, посадить килу.