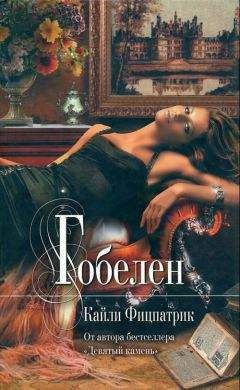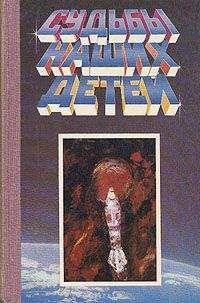Владимир Козлов - 1986
– Нет пока. Но мы его еще и не проверили толком.
– И не надо. Понятно? – Прокурор посмотрел на Юру. – Все, вопрос закрыт.
7 мая, среда
Юра ехал на «Урале» по Рабочему поселку. На остановке из троллейбуса высыпались тетки с сумками, мужики в заношенных пиджаках, засаленных брюках и сандалетах, на ходу вытаскивая из карманов пачки «Астры», спичечные коробки. Бабки у продовольственного магазина продавали редиску, разложив кустики на газетах.
Справа стояло новое семиэтажное здание областного архива с красно-белым лозунгом «Мы придем к победе коммунистического труда», за ним начинался забор автоколонны, покрашенный в зеленый цвет.
На пустыре между архивом и автоколонной стояли двое металлических ворот без сеток. У одних ворот столпились с десяток пацанов лет по четырнадцать – пятнадцать.
Юра остановил мотоцикл неподалеку, поглядел на пацанов. Они глянули на него и тут же отвернулись. Пацан в синих хлопчатобумажных спортивных штанах махнул рукой другому, идущему от магазина. В сетке у того был батон и две бутылки кефира с зелеными крышками из фольги.
– Э, Зуба, – крикнул пацан, – иди, попробуй забить Кощею. А то никто ему сегодня не может забить… Нейкий он непробиваемый…
Зуба положил сетку в траву, подошел к мячу. На воротах стоял полный невысокий Кощей в больших потертых замшевых перчатках.
Зуба разбежался, ударил по мячу, вскрикнул, запрыгал на одной ноге. Мяч откатился на полметра. Из него посыпались песок и камни. Пацаны заржали.
* * *
Юра остановил мотоцикл. Слева тянулась лесополоса, сквозь деревья – еще без листьев – видна была насыпь железной дороги. Справа зеленели на поле свежие всходы, за полем начинались деревенские дома. На машинном дворе «Райсельхозтехники» стояло несколько тракторов и комбайнов.
Юра дошел до конца лесополосы. От переезда катился пассажирский поезд. Промелькнули, один за другим, зеленые вагоны. Юра подошел к проходу под насыпью. С бетонной опоры капала в лужу вода. Он обернулся. По тропинке вдоль поля бежал в сторону города лысый мужик в черном спортивном костюме.
Юра прошел под насыпью, зашел в лесополосу на другой стороне, сделал несколько шагов по тропинке. Хрустнула под его ногой улитка.
Впереди шла девушка в желтой юбке и серой ветровке. Юра ускорил шаг, обогнал ее.
– У вас сигареты не будет? – спросила девушка.
Юра остановился, она тоже. Ей было лет шестнадцать, невысокого роста, волосы собраны сзади в хвост, по бокам заколоты двумя красными заколками.
Юра вынул из кармана «Космос», дал ей сигарету, взял себе, прикурил зажигалкой обоим. Девушка затянулась, выпустила дым.
– Что ты здесь делаешь так поздно? – спросил Юра.
– Домой иду… Я гуляла с Ленкой… ну, подругой… она – с Рабочего… А мы живем на «Абиссинии»… – Она показала рукой вперед. – Это напротив станции Буйничи, только через пути перейти.
Юра кивнул. Просигналил приближающийся поезд, загрохотал, проезжая мимо по насыпи.
Юра схватил руку девушки, заломил, потащил ее с тропинки в лесополосу, другой рукой ударил сзади по голове.
8 мая, четверг
Юра и Оля сидели на бетонном немецком доте с дырками от пуль. Рядом стоял «Урал» Юры.
Внизу, под обрывом, зеленели луга, за ними виднелся Днепр, на другом его берегу – ряды панельных домов и дымящие трубы.
На берегу реки стоял «Москвич», возле него на покрывале сидели несколько человек. Из приемника «Москвича» звучала песня:
Ах, белый теплоход, бегущая волна,
Уносишь ты меня, скажи куда…
Рядом с «Москвичом» пацаны играли в футбол на поле с самодельными деревянными воротами без сеток.
– Это – немецкий дот, – сказал Юра. – Сокращенно от «Долгосрочная огневая точка». Наши наступали оттуда, из-за Днепра. – Он показал рукой. – Таких дотов несколько штук осталось по всему городу…
Оля придвинулась ближе к Юре, положила голову ему на плечо.
– Когда у тебя закончится сессия? – спросил Юра.
– В конце июня должна… Потом месяц практики, а в августе – каникулы.
Игра остановилась. Два пацана стали драться.
Остальные, обступив их, наблюдали. Один упал на траву, второй молотил его ногами.
– А я возьму в августе отпуск, и мы поедем на море, – сказал Юра, – в Крым…
Юра обнял Олю за плечи. Игра продолжилась, пацаны снова забегали по полю. Со стороны речного порта плыл буксир, тянул за собой баржу. Низко летел самолет-«кукурузник».
Послесловие к изданию романа Владимира Козлова «1986»
Владимир Козлов вошел в литературу начала 2000-х буднично и непринужденно – словно толкнул плечом входную дверь в подъезд. Вышедшие одна за другой книги «Гопники», «Школа», «Варшава», «Плацкарт», «Попс», повествующие о жизни провинциальных советских подростков, ставших «потерянным поколением» граждан развалившейся империи СССР, принесли писателю заслуженную популярность как в молодежной среде, так и в кругу искушенных интеллектуалов.
Одних читателей привлекают аутентичность и яркий бытовой колорит текстов Козлова, умение точно схватывать детали повседневности; других впечатляет достоверность и беспощадность изображения российских реалий; третьим нравятся естественность поведения и живость языка козловских персонажей. Кто-то любит прозу этого автора, ностальгируя по советскому прошлому и предаваясь юношеским воспоминаниям, кто-то читает ее в целях знакомства с неизвестными либо пока неизведанными сторонами жизни нашей страны, а кто-то – ради погружения в атмосферу субкультурных групп и неформальных объединений, часто изображаемых в произведениях писателя.
Козлов – литературный коллекционер бытовых вещей и протоколист реалий эпохи СССР. Советские вещи – отдельные и самостоятельные герои, полноправные действующие лица его романов и рассказов. Как никакой другой, этот автор доложит вам внутреннюю и внешнюю политическую обстановку, допустим, мая-85, выдаст программу телепередач на июнь-90, напомнит порядок российских цен декабря-93 и компетентно поведает о вкусовых свойствах жевательной резинки «с Незнайкой» и ее оценках советскими школьниками в сравнении, скажем, со жвачкой «Кофейная» той же фабрики «РотФронт».
Уличные автоматы с газированной водой и прицепные бочки с квасом, изразцовые лозунги «Слава труду!» и плакаты со схемами разделки мясных туш, джинсы-«варенки» и штаны-«слаксы», кубик Рубика и настольная игра «За рулем», кефир в стеклянных бутылках с фольгированной крышечкой и березовый сок в трехлитровых банках – все эти уже ушедшие, полузабытые, но памятные и дорогие нескольким поколениям россиян предметы в изобилии представлены на страницах козловских произведений. Причем всякая вещь, как в государственном запаснике, строго на своем месте и в соответствующем окружении. Владимир Козлов – педантичный хранитель и умелый реставратор.
Правда, первые издатели и особо рьяные литературные критики поспешили налепить на его прозу ярлыки «маргинальная», «чернушная», «антикультурная», а самого автора уподобить «отечественному Уэльбеку» и даже «русскому Сэлинджеру». Это привело к полнейшему игнорированию писателя серьезными литературоведами и рафинированными книголюбами. Первые проходили мимо, высокомерно вскинув академическую бровь, вторые брезгливо морщились и страдальчески закатывали глаза.
Между тем, в сегодняшней российской литературе вряд ли найдутся авторы, идеологически и эстетически близкие Владимиру Козлову. Его тексты – «на дальнем пограничье». Дальнем – потому что находятся на периферии жанров и стилей, являя собой почти идеальный образец «нулевого письма» – нейтрального, выхолощенного, лишенного традиционно присущих литературе словесных украшений. А на пограничье – потому что это не собственно художественная, но и не документальная проза.
В зазоре между беллетристикой и документалистикой, на стыке литературы с жизнью возникает то, что сам писатель назвал «трансгрессивной минималистской прозой». И, пожалуй, это довольно точно, если определять трансгрессию вслед за Мишелем Фуко как «жест, обращенный на предел». На предел зримости и конкретности, смысла и понимания, нормального и допустимого.
Козлов легко и смело выходит из границ вымысла в стихию естества, преодолевает догмы, взламывает условности. Его герои разговаривают кто на повседневно бытовом, а кто и на снижено уличном языке, не стыдясь просторечия, сленга, ненормативной лексики. При этом автора можно упрекнуть во многих «смертных грехах» против высокой литературы, но его повествовательная манера обладает, как минимум, двумя неоспоримыми достоинствами: неизменной верностью жизненной правде и отсутствием малейшей фальши.
Шумная суета российской столицы и размеренная повседневность провинции, промышленные зоны и спальные районы, гопники и «неформалы», торговля на вещевом рынке и офисная рутина – все подвергается беспристрастному, жесткому, но всегда точному и детальному описанию. А когда Козлова спрашивают, почему он видит так мало хорошего в окружающей действительности, писатель отвечает: «Я пишу о том, что возникает, когда хорошее – добро и красота – уходят от нас». В этом заявлении нет ни пафоса, ни позерства, оно абсолютно искренне и потому убедительно.