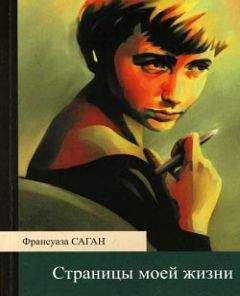Валерий Шемякин - Чердаклы
На ручное управление переходить не рекомендую, говорит красавец-генерал, ну, может, в самом крайнем случае. В каком кгайнем? – вскидывается Павлов. Ой, не будет никакого крайнего, машет руками генерал, извините, хе-хе-хе, в общем, в управление не лезьте – и все будет ништяк! Главное – не нервничать и помнить, что наши летательные аппараты абсолютно неуязвимы. Непосредственно в боевых действиях ваше участие не предусмотрено, вы сможете следить за ходом атаки со стороны и, конечно, корректировать действия наступающих, если в этом будет особая необходимость. Но, думаю, такой необходимости не будет. Он козыряет и уходит. Все сказанное генералом Мише кажется вполне разумным.
Павлов с нетерпением дожидается, пока на ратный подвиг их благословит митрополит с группой молодых диаконов; легко, пружинящей, почти юношеской иноходью он взлетает по ступенькам трапа, решительно входит, осматривается, устраивается в гнезде перед светящимся шаром. Он бодр и уверен в себе.
На самом деле он не любит технику, все эти средства стремительного передвижения в пространстве, особенно по воде или в воздухе, ему нехорошо бывает в скоростном лифте. На эту авантюру решился только потому, что ему гарантировали полную безопасность. Вспомнилось вдруг, как ни странно, он любил пускать бумажные кораблики и самолетики в детстве.
Маленький мальчик на лифте катался. Все хорошо. Только трос оборвался…
Начинаем обряд прикосновений, – доносится снизу чей-то механический голос. – Стартовая позиция устойчивая. Контакт! Есть контакт! От волнения у Павлова перед глазами появляются картинки из какого-то дешевого сериала. Громадная розовая крыса набрасывается на девочку в белом платье и вонзает в нее свои клыки…
Прикосновение первое! Контакт нормальный!
Павлов пытается сосредоточиться, но слышит в наушниках посторонние звуки. Детский плач. Вздохи. Шорохи. Вкрадчивое рычание. Что за ерунда? Все непонятное и неизведанное выводит его из себя. Он начинает испытывать беспокойство.
Прикосновение третье!
…Она высосет девочке мозг, но та не умрет и даже не потеряет сознание. И не будет страха в ее глазах. Она будет видеть своего мучителя, чувствовать его клыки. Она с готовностью примет мучения. В голове ее будет пусто, она ничего не будет знать и помнить. Она никогда никого больше не узнает. И не вспомнит. Она не вспомнит даже, почему она здесь…
Да что ж это такое, Павлов изо всех сил встряхивается, пытаясь избавиться от наваждения, но до конца сделать этого не может. Вот привязалось! И тут он напрягает все свои силы и громко поет. Он кричит свою песню в кабине, сидя перед прибором управления, глядя в светящийся шар, он не может остановиться, он поет, он почти кричит, чтобы слышали все, каждая тварь, каждая злобная крыса.
Роется мама в куче костей: Где же кроссовки за сорок рублей?
– Шеф, что там у вас? – слышит Павлов в наушниках. – Все нормально?
– Все ногмально, – отвечает Павлов, бесшумно всхлипывает и думает: быстрее бы, что ли?..
Ненадолго воцаряется тишина. Она прерывается с появлением кого-то очень важного, судя по тому, как забегали по шуршащей бумаге огромные насекомые и нервно начали бить вверху крыльями летучие крысы. Генеральный кондуктор, – доносится снизу почтительный шепот, – главный.
Миша не различает, кто это, но голос очень знакомый. Он силится вспомнить, но что-то мешает ему, будто перегородили картонной перемычкой мозг и не все сходится там. Насколько это возможно Павлов отворачивает голову от шара, плотно зажмуривает глаза, но видение не исчезает – кондуктор пляшет перед ним, – на его разлетающихся черных кудрях фуражка с высокой тульей, мундир василькового цвета с оранжевыми отворотами. Белые тапочки. Как же я раньше их не разглядел? Обыкновенные тапочки. И улыбка. Гнусная улыбка, рождающая демонический хохот.
Павлов слышит, как что-то скребется у него над головой, под потолком, у самого свода, в том месте, где его гнездо крепится к круглым обручам, он чувствует, как возятся там невидимые жучки-точильщики, они перегрызают перемычку, чуть слышно жужжат, гнездо дрожит, слегка покачивается. Когда же старт? Но вдруг ощущает, что старта он тоже боится. Он боится всего. К горлу подкатывает комок…
И разом все обрывается. Павлов видит, что они уже взлетели, уже высоко над землей, быстро перемещаются на восток.
– Все взлетели? – спрашивает он у диспетчера, переводя дыхание.
– Один застрял.
– Кто один? Одна посудина? – Он старается как можно небрежнее произнести это слово – посудина, будто тысячу раз хлебал из нее.
– Тут за аэродромом такая грязь, – говорит диспетчер, – пилот один опоздал, поехал напрямки и застрял. Тарелка взлетела без него. Пустая. Да вы не волнуйтесь – от стаи не отобьется.
Дела-а… Павлов тыркает себя пальцем в раздутую щеку, извлекая странные звуки: пу-пу-пу! Внизу, под тарелкой, проносится вся его страна – необозримые пространства. Территория человеческого могущества. Шар обзора показывает грандиозную панораму и одновременно отдельные предметы, пролетающие внизу. Возникает ощущение, что он мчится в сапогах-скороходах, не разбирая дороги, успевая при этом рассмотреть все вокруг. Горящие леса. Вымершие деревни. Мазутные реки, перегороженные дырявыми плотинами с гниющей по берегам рыбой. Черные воронки горных разработок. Мусорные полигоны. Горы бетонных отходов и старых автомобилей. И флаги, флаги – пластиковые упаковки самых невероятных расцветок… Забайкальская нано-демократическая республика, Маньчжоу каганат, Колымско-Кунаширская автономная халдамса…
– Штокман! Давай в догонялки!
– Ты что! За нами следят.
Еще несколько минут – и вот уже море, Тихий океан. На землю опускается ночь, но по-прежнему хорошо различима всякая деталь внизу. Там разыгралась буря, грандиозный шторм бушует в океане. Даже отсюда, при этой немыслимой скорости можно различать гребни волн, хотя они и кажутся совсем крохотными. Его чуть подташнивает. Небо кажется ему огромным спящим экраном, на котором различима дебильная морда чувака, которого они замуровали в пещере.
На обратном пути надо будет заняться Азией. Я принесу гибель Японии! Хотя нет, не гибель. Присоединю ее к Сахалину на правах автономной республики. Мысль его восторженно скачет по островам. Англия!!! Вот оно! Расхерачить добрую старую Англию! Обойтись с ней предельно сурово…
– Командир! – слышит он в наушниках. – Американцы подняли в воздух перехватчики и, не исключено, запустили систему ПРО!
Павлов чуть поеживается. Роется мамочка в куче костей… У них ведь нет тарелок! А если есть?
И тут его тарелка резко падает вниз, проваливается в черную бездну и почти в тот же миг стремительно взлетает, мчится по спирали и снова обрушивается вниз до самой волны океанской. Он хватается за поручни, ему нехорошо, он открывает рот, тяжело дышит, видит, что и остальные тарелки, вся его летная дивизия, совершают столь же беспорядочные движения. Строй нарушается. Он понимает, что надо отдать команду, самую решительную, какую только возможно, но не находит слов. И вдруг…
За десять тысяч километров отсюда Зиновий Давыдов в этот самый момент орет свое сто-о-оп, а чувак на экране бьет ладонью по голубому небосводу. Тарелка резко останавливается, уткнувшись в невидимую преграду. Павлов больно бьется лицом в шар обзора и замирает. Останавливается все. Все, что летело, плескалось, шипело, гремело, гудело, мчалось, болталось, звенело, искрилось, кувыркалось… Он сидит с выпученными глазами, влепившись нескончаемым поцелуем в зеркальный шар. И только стаи рукокрылых скачут в его глазах…
Федя Бабарыкин
Как отнесется к Джизусу папа?..
На предельной скорости она проскакивает пост ГАИ, обгоняет автобус с детьми, радостно машущими ей из-за стекол, выскакивает на встречку… скачет в глазах мальчик в коротких штанишках… Прямо в лоб ей летит калымага…
А в пещере появляется Федино детство. Он с мамой на утреннике. Смотрит на сцену, оглядывает зал, осматривает себя и думает: ну когда же я вырасту, когда меня перестанут дразнить Чебурашкой. Да-да, у него в детстве были несоразмерно большие уши, и как же все над ним смеялись…
Спектакль начинается. Не в первый раз. И не в десятый. Он начинается в тысячный раз. Снова и снова. Бесконечное возвращение к празднику. Изнуряющее в своем однообразном великолепии. Каждый раз все то же и каждый раз не так, как до этого. Актеры кривляются, пытаясь удивить своих маленьких зрителей, изображая не существующих живых и неживых тварей, и все присутствующие – и актеры, и зрители, и режиссер, и автор – понимают, что притворство не удается, обман не получается, все фальшь, все ложь! Тем не менее попытка следует за попыткой, на сцену вылезают персонажи из других историй, представление прерывается из-за внезапно хлынувшего на сцену дождя. Потом все возобновляется. Актеры бранятся. У них ничего не выходит. Картина следует за картиной, одна скучнее другой. Все очень плоско, неубедительно, обман не ярок, тщетен, неправдоподобен. Актеры покидают сцену. Затем возвращаются, начинают играть тот же спектакль с самого начала. Но это уже другое начало – вроде бы и герои, и чудовища те же самые, и говорят они те же слова, но это уже совсем скверно, совсем плохо и хочется плакать, потому что из всех щелей лезет неверие…