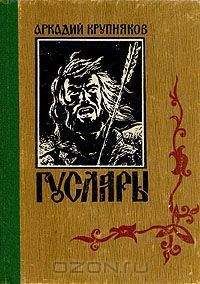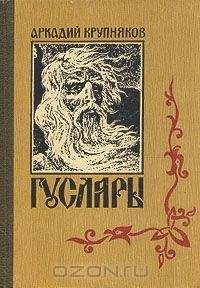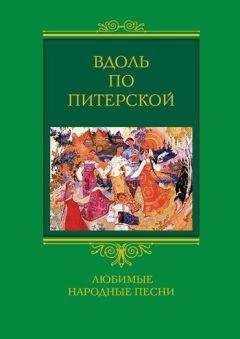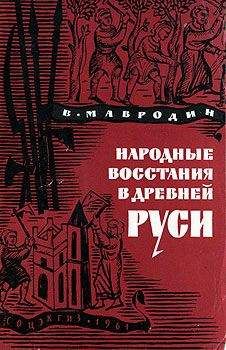Хамид Исмайлов - Мбобо
Но в тот год в Москве стояла постоянная осень. В один из серых, ненастных дней, когда у Ирины Родионовны разыгрался нещадный ревматизм и она не могла встать с места, несмотря даже на массаж, который делали поочередно то я, то Аким, позвонил по телефону Назар и попросил меня подъехать на метро «Парк культуры», дескать, есть срочное дело. Назар теперь часто брал меня с собой на всякие деловые встречи, но поскольку он стал теперь выдавать мне при встречах не тридцать рублей, а столько же баксов, то мне не было резона отказываться.
Человек быстро забывает о проклятиях, не правда ли? Тем более, живые деньги, тем более, по тем временам, так что я оставил Ирину Родионовну на попечение Акима, солидно, тоном добытчика объяснив, куда и зачем ухожу, и поехал на «Парк культуры». Там, в тесноте банного зала под шахматистами, я отыскал экс-проклятого Назара, и он «дал мне вводную»: «В парке нас ждет Глеб с двумя такими же охломонами, как и он сам, и эти охломоны хотят продать не только свои ваучеры, но, видать, и квартиры.»
Мы вышли наверх, прошли под свищущими ветрами в парк культуры, отыскали глухое кафе, где Назара ждал бездомный Глеб со товарищи весьма артистического вида (Розенкранц и Гильденстерн, подумал я механически). Но что неприятно поразило меня — даже не то, что от Глеба пахло мочой и заношенной до бомжества одеждой, а то, что он совсем не обрадовался моему появлению, напротив, был неприятно поражен и даже, казалось, напуган. «Малыш, а ты зачем тут?..» — растерянно произнес он, но потом махнул рукой и пригласил нас к столу.
На столе уже стояла выпивка и кое-какая закуска, и это так горько напомнило мне время, когда мама была жива и была с Глебом, что я был готов и простить, и пожалеть… Начали с выпивки за знакомство. Я от безделья сидел и молол зубами жесткие сушки, рассыпанные по столу вперемешку с кусками колбасы, луком и бородинским хлебом. Как оказалось, друзья Глеба действительно были актерами, и мне смутно казалось, что я их где-то давным-давно видел. Они шумно поднимали тосты то за Глеба, познакомившего их с Назаром — «человеком нового разлива», то за самого Назара, а потом и за меня, что «увидит новую Россию». Один из них патетически процитировал Пушкина по этому случаю:
Несчастью верная сестра —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора —
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут!
При этом он деланно протянул мне огромный столовый нож, которым только что нарезал докторскую колбасу. Я положил нож обратно на стол, нацепив на него одну из сушек.
За этими тостами и разговорами о ваучерах и квартирах они уговорили две бутылки, что стояли на столе. Назара порядком развезло, он обещал артистам вложить их ваучеры в некий «Довгань-хлеб», что будет приносить тем нескончаемые доходы, покуда всякий рот ест хлеб насущный. Глеб предложил выпить за хлеб насущный и достал бутылку самогона из некоего подобия портфеля, в котором все свое носил с собой. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»
— святотатствовал он, предлагая тост за Назара, с кем «делил самое последнее и даже самое любимое.» Я сидел, и меня все сильнее охватывало раздражение — и на эту пьянь, и на хвастовство, и на бессмыслицу.
Не дожидаясь остальных, Назар хлобыстнул свой стакан. Но не успел он его отставить, как внезапно схватился за горло и на глазах стал зеленеть, лиловеть, синеть. Сначала я подумал, что он опять бравирует, неловко и глупо пытаясь побить артистическую братию на их половине поля, но, так и не отпустив горла, он внезапно дернулся назад и грохнулся вместе со стулом.
Актеры вскочили первыми, стали трясти, один из них закричал хорошо поставленным голосом: «Скорую! Скорую!», как кричал бы в театре «Карету ему! Карету!» Понабежали работники кафе, поднялась суматоха, но я как сейчас помню, что три стакана на столе стояли нетронутыми, а Глеб, тот Глеб, что гонялся за моей мамой с ножом, Глеб, что был изготовителем ядов в прошлой жизни, сидел, не шевелясь, держа в руках тот кухонный нож с сушкой, напяленной на острие, и его желваки ходили так, как они ходили в моем далеком и близком детстве.
Станция метро «Октябрьская»Вот и свершился круг. И опять я на станции метро «Октябрьская», забывшей свое имя, и опять дует сквозной ветер, как будто я демон, проклятый Богом за гордыню, и сослан в этот подземный храм замаливать свои и чужие грехи. Но на самом-то деле я приезжаю сюда как свидетель. Погибший Назар был офицером МВД со связями, и потому оперативники МВД взяли это дело под особый контоль, и меня допрашивают в присутствии больной Ирины Родионовны, которую эта жуткая история доканывает на глазах. А однажды нас ведут какими-то неведомыми коридорами и лестницами в глубокие подвалы КПЗ, где в каменной комнате с дверью при камерном глазке нас с Ириной Родионовной оставляют одних, прося не беспокоиться, но разве можно не беспокоиться в подвалах МВД, и я прислушиваюсь изо всех сил и слышу поезда. Жутко мне стало тогда, по другую сторону от метро, — в параллельном мире казематов и карцеров, и я прижался к скудному телу Ирины Родионовны, как будто от нее ожидая защиты.
Ввели Глеба, бледного и обросшего, но поскольку его отмыли от прежней вони и одели в тюремную робу, а еще потому, что он не пил все эти дни, Глеб вдруг опять обернулся дядь-Глебом, то ли разыгрывающим меня, то ли приглашающим в театр. Но то была очная ставка. Меня спрашивали о том, как долго и каким я знал Глеба, как он вел себя в тот злополучный день в кафе, ревновал ли он маму к Назару, назадавали еще много других вопросов, так, что они смешались в моей голове, но я помню, как резко прервал допрашивающий Глеба, когда тот со слезами на глазах обратился ко мне: «Малыш, ты ведь знаешь меня, расскажи.»
Я изо всех сил выгораживал его, вспоминал лишь самое светлое из нашей жизни: библиотеки и новогодние елки, Союз писателей и дома творчества. Глеб безудержно плакал от моих детских воспоминаний. Ни словом не обмолвился я ни о запоях, ни о дебошных ночах, ни о погонях с ножом за моей мамой, ни о кануне ее смерти.
И все же вскоре случился суд, где Глебу припаяли убийство по неосторожности и отправили по этапу во глубину сибирских руд.
Литера десятая
Все смешалось в доме Ирины Родионовны Облонской. Руслан, парень в расцвете сил, внезапно умер от перитонита, умер на операционном столе. Аким остался сиротливым и никому не нужным существом, а потому убежал из дому к какому-то из своих кавказских дядек. Ирина Родионовна мало того, что страдала от невыносимого ревматизма, подверглась у себя на квартире вооруженному нападению трех бандитов в масках, искавших доллары Назара. В тот день я задержался в школе, а когда вернулся, вся квартира была залита кровью, а полумертвую Ирину Родионовну соседи уже отправили на «скорой» в ее собственную Пироговскую больницу.
Весь остаток дня я оттирал со стен кровавые потеки, а ночью, вооружившись топориком и молотком, бессонно ожидал возвращения бандитов, но они не вернулись ни той ночью, ни следующим днем, ни позднее.
Все смешалось и вокруг: рушилась империя, отменялись старые деньги, назывались по-новому улицы, районы, города. Люди в одночасье стали другими. Кирса теперь правил одной из долгопрудненских банд, Ванька Кореновский был кем-то в молодежном крыле «Памяти», глебовские друзья-актеры открывали с Боровым московскую биржу.
Но самое страшное — вдруг стали переименовывать станции моего метро! Это все равно, как внезапно называть руку хэндом, а ногу — жамбом. Я часто смотрелся теперь в зеркало и временами не узнавал самого себя. Не узнавали меня и другие. Вчерашние соседки-старушки, гладившие меня по курчавой голове, приохивая: «Ты наша сиротинушка.» — теперь в очереди за сухим молоком шпыняли меня по поводу и без повода: «Понаехали тут всякие черные!» В школе из отличников я скатился на «троечника», смешно сказать, что забракованные мною самим чертежи, подобранные каким-нибудь Борькой Ключниковым, получали отличные оценки, а за те, что я чертил из кожи вон, мне ставили — на листе, испещренном красными ошибками, — жирную тройку.
Моя сибирская бабка вдруг нагрянула на нашу квартиру на Большой Татарской, я думал, чтобы поухаживать за бедной Ириной Родионовной, где там! — приехала судиться за пенсию якобы для меня «по потере кормильца». Месяц она ходила по всем инстанциям МВД, по собесам и нотариальным конторам — отнюдь не в Пироговку, где залечивала свои переломы бедная Ирина Родионовна. Отсудила ли — не берусь сказать, но исчезла так же без предупреждения, как и приехала, даже записки не оставила.
Да, и впрямь все смешалось в доме Облонских.