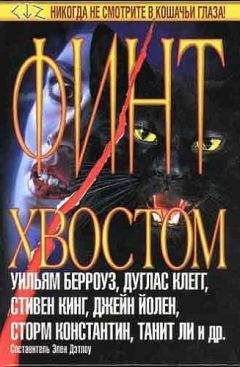Зденек Плугарж - В шесть вечера в Астории
— Ты не должностное лицо, и при тебе не будет большой сумки, набитой деньгами, — ответил он и вдруг подумал: почему рядом со мной нет сейчас Мины! И очень четко ее увидел — в новом платье, которое ей так к лицу— это называют „моделью“, — с непривычным асимметричным овальным вырезом… С усмешкой поймал себя на том, что перенял от своей любовницы некоторые специальные термины из области, в общем-то недостойной поэта, — но ведь, в конце концов, обыденные вещи неотъемлемы от жизни, а прозаик обязан знать даже то, что вряд ли когда-либо использует в своем творчестве.
— Зеленый валуй! — вскричала Руженка, и Камилл только сейчас заметил, что они перешли из парка в лес. — А это зеленушка, она голубоватая, и… зубчатые пластинки… — она с веселым видом принесла показать гриб Камиллу.
— Вот не предполагал, что ты в лесу как дома.
— Я редко когда попадаю в лес, а грибы знаю по книжкам. Кроме трех сотен книг, у меня дома есть еще три атласа грибов. В сущности, все, что я знаю, — из книг, — сказала она, словно извиняясь.
И Камиллу от этого признания стало жаль ее — за то, что лишена Ружена всех тех радостей, которые обогащают жизнь девушек. И за то, что ей придется провести здесь четыре дня в полном одиночестве, когда он уедет с Крчмой. Однако сострадание — совсем не то, чего от него ожидала Ружена…
Почему нет со мной Мины? Она, правда, вряд ли отличит белый гриб от поганки, зато она излучает такие возбуждающие любовные флюиды, что дух захватывает…
Руженка в восторге носила Камиллу гриб за грибом и даже один лесной шампиньон — такой гриб он видел впервые в жизни. На косогоре над дорогой Ружена нашла боровик; прыгая через канаву — Камилл подал ей руку, — она споткнулась и прямо влетела к нему в объятия. Их лица оказались вплотную: три секунды смятенного оцепенения — и, когда поцелуй был уже неотвратим, Камилл сделал то, чего и сам не мог объяснить: легким движением отстранил девушку.
И опять они пошли рядом; несостоявшееся сближение отметило высокий лоб Ружены краской покорности. Только сейчас она заметила, что от боровичка, который она все еще держала в руке, осталась только половина — этот сломанный красивый гриб стал как бы символом неудачи: то мгновение могло перевернуть всю ее жизнь, а пропало впустую… Она выбросила остатки гриба, машинально вынула из сумки очки и надела их. Шла молча, устремив взор вперед, и лишь изредка поглядывала на свою руку, и Камилл чувствовал за нее, как в этой пустой ладони она все еще несет горечь разочарования.
Описав круг, пошли обратно — и вдруг расслышали лесную тишину покинутого, обезлюдевшего края. Стоял теплый еще, солнечный осенний день; полосы леса, тихого, уже почти без птичьего гомона, сменялись нескошенными лугами да брошенными нивами, еще не обретшими новых хозяев. И за очками на лице Руженки светилась как бы окончательная примиренность с тем, что и на сей раз она обманулась и этот шанс упустила.
Из здания лечебницы вышел Крчма. С интересом просмотрел добычу, которую Камилл нес в носовом платке. Заметил печаль на лице Руженки.
— И ни одного ядовитого — видали? Дитя города, а как разбирается в дарах леса.
— Это все Руженка, я в грибах — ни бум-бум. — Последние слова я мог бы и не произносить. Угрызения совести — неоплаченный долг за приятное настроение по дороге из Праги; один дружеский поцелуй ни к чему бы меня не обязывал!
Провожая Крчму к его пансионату, дошли до бывшего немецкого квартала. Странная тишина… Брошенное жилье, а кое-где домики уже заселены; собачий лай за забором одного из них странно отдается на полувымершей улице., Некоторые окна выбиты, за ними кучи обломков, рухляди — немецкий Иисус Христос смотрит с почерневшего распятия на весь этот вызывающий, мстительный беспорядок, который немцы оставили после себя. Еще одна опустевшая квартира, но эта убрана так, словно ждет новых хозяев, за окном кухни белый занавес с вышитой надписью „Mit Gottes Segen wird alles gedeihen“[34], на стене — глиняная посуда.
Камилл вдруг остановился: за одним из окон, лицом к улице, сидит кукла в замызганном дирндле[35], одна рука оторвана.
И вдруг отчетливо встала перед ним икая картина: фанатичные немецкие женщины в истерике прорываются сквозь оцепление солдат, со слезами восторга пытаются бросить хоть цветочек в автомобиль Гитлера, проезжающий по пражским улицам. „Wir danken unserem Fuihrer! Sieg heil!“[36]
Эта кукла за окном…
— Не взывайте к нашим чувствам, — пробормотал он скорее про себя, не ожидая ответа.
— Да, атмосфера довольно впечатляющая, — Крчма оглянулся на пустынную улицу. — Послушай, Камилл, а может, попытаешься извлечь что-нибудь из этого!.. Заселение пограничной области — вот это тема! Со всем, что к сему относится: люди, в корне переменившие свою жизнь, так сказать, пионерами начинают все сызнова, на пустом месте… Вжиться в чувства тех, кто приехал сюда со всем скарбом, не зная, куда и на что едут, — а их тут встречает мертвая тишина, однорукая кукла в дирндле… Немало и драматических, моментов, напряжения к опасностей — ты хорошо знаешь, сколько тут было случаев саботажа, прежде чем выдворили закоренелых нацистов. Мне кажется, что материала вполне хватило бы на приличную повесть…
Каким мягким тоном говорит, никакой грубоватости… Все-таки болезнь как-то изменила нашего Роберта Давида.
— Но я не верю, чтобы эта так называемая бурная современность могла вдохновлять. По-моему, есть вещи, на которые прежде надо определить точку зрения, оценить их беспристрастно, без эмоций, как бы сверху…
Крчма глубоко вздохнул. Но я-то хорошо видел, как ты подавил снисходительную улыбку» Роберт Давид!
— Да, пожалуй, это тема для большого романа, в котором через аргументированный анализ подходишь к обобщенному синтезу. Я думаю, пока это в твою задачу не входит…
Да-а, срезал он меня!..
— Ив лавине современной литературы о концлагерях это была бы свежая струя, Камилл, — вступила в разговор Руженка, пока еще несмело, но уже стряхивая с себя уныние.
Какая забота о литературных сюжетах для меня! Будто я сам не смогу найти свою тему…
— Благодарю вас обоих за добрые пожелания. Тема привлекательная, но уж больно смахивает на репортаж. Мне бы хотелось чего-то другого, пан профессор: написать о человеческой душе, нечто вроде о «человеке в себе, без особой связи со средой — изобразить проблемы человеческой психики вне времени… Хотелось бы попробовать что-то новое, и я чувствую, что старый реализм для меня не выход…
Крчма остановился, вспушил усы — предвестие воинственного выпада.
— Я не собираюсь навязывать то, что тебе против шерсти. Всегда после больших войн литература начинала сызнова, с новым содержанием и подходя к нему с новых авторских позиций, — но должна же она из чего-то исходить; для данной эпохи и данного общественного устроения это все же традиция реализма. И ты будь любезен не смотреть на нее так уж свысока. Что в чешской литературе заслуживает этого названия — все, что есть в ней чешского и что есть собственно литература, — так или иначе опирается на реализм. Так уж повелось, что всякий достойный этого названия писатель малой нации несет еще одну ответственность, кроме так называемой ответственности перед искусством, Кстати, что касается последней, так ею можно всячески спекулировать, но с ответственностью литературы перед обществом так просто не смошенничаешь!
У этого бывшего атлета-дискобола под ставшим свободным пиджаком выступают лопатки, однако болезнь не слишком его сокрушила, по-прежнему это наш старый воинственный Роберт Давид, Только не следует ему так уж меня поучать…
— Прошу прощения за смелость, но если меня когда-то и захватывала литература, то редко это была литература чешская. На мой взгляд, в такой приверженности к отечественным образцам есть что-то ретроградное (вообще так называемая ответственность перед обществом — балласт, который тянет к земле творческую личность). И сознаюсь, если мне когда и хотелось писать, то, конечно, не после чтения Мрштика или Раиса.
Крчма встал, расставив ноги, но заговорил на удивление мирно:
— Тебя извиняют твои двадцать три года, и я даже не удивляюсь ничему: видишь ли, подражать реалистической прозе, если она написана сердцем, невозможно. У Мрштика и даже Раиса нет эпигонов. Не знаю, кем ты ослеплен в мировой литературе, но помни одно: если будешь играть на флейте сочинение для органа, никто не примет тебя всерьез. В искусстве инструмент — вещь существенная. Твой же инструмент — чешский язык, парень, и заключенный в нем опыт чешского народа.
Камилл, по-ученически сдерживаясь, проглотил слово „отсталость“, посмотрел па исхудавшего, пожелтевшего Крчму и сдался:
— Хорошо, пан профессор, я с помощью Руженки достану что-нибудь из Раиса и посмотрю, что сумею сделать.
Черт возьми, какой промах — у девчонки опять разгорелись глаза в предвидении нового шанса! А Крчму моя примирительная ирония, кажется, возмутила больше, чем отстаивание права на эксперимент, он весь встопорщился, опять готов нападать…