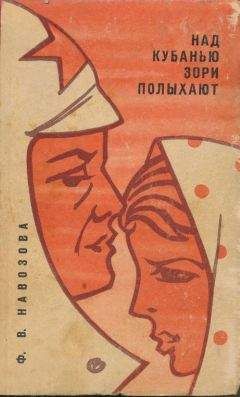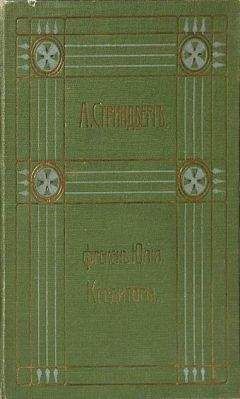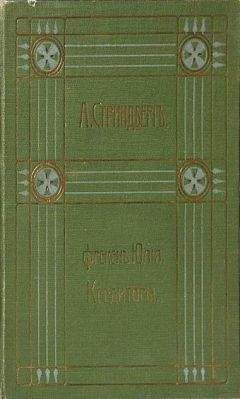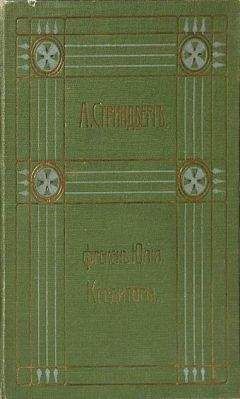Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 4. Красная комната
— Ах, так это вы, господин Фальк, — сказала маска. — Привет вам, друг мой! Может быть, полюбуетесь моей деятельностью! Простите меня, ведь вы искуплены? Да! Это здесь экспедиция типографии — простите, одно мгновение…
Он подходит к органу и вытягивает несколько регистров; в ответ слышен свист.
— Пожалуйста, оглядитесь пока здесь.
Он приставляет рот к одной из труб и кричит: «Седьмая труба и восьмое горе! Нистрэм! Медиоваль, 8, копии фактур, имена выставить!»
Голос отвечает в ту же трубу: «Рукописи нет». Маска садится за орган, берет перо и лист бумаги и скользит пером по бумаге, говоря сквозь сигару.
— Эта деятельность… такого… объема, — что она вскоре перерастет мои силы, и мое здоровье… было бы хуже… чем оно есть, если бы я не так… следил за ним.
Он вскакивает и вытягивает другой регистр и кричит в другую трубу: «Корректуру «Заплатил ли ты твои долги?»!
И потом опять продолжает одновременно писать и говорить.
— Вы удивляетесь… почему… на мне… лакированные… ботфорты. — Это потому… что во-первых… в целях поддержания… здоровья… я езжу верхом…
Приходит мальчик с корректурой. Маска передает ее Фальку и говорит в нос, потому что рот занят: «Прочтите-ка», подавая вместе с тем глазами знак мальчику, чтобы он подождал.
— Во-вторых (движением ушей он хвастливо говорит Фальку: «Слышите, у меня нить»!) потому… что я того мнения… что человек духа… не должен… отличаться своей… внешностью от… других людей… ибо это… духовное высокомерие… и вызов хулителям.
Входит бухгалтер, и маска приветствует его кожей лба, единственной незанятой частью лица.
Чтобы не сидеть без дела, маска берет корректуру и читает. Сигара продолжает говорить.
— Все другие люди… носят сапоги… я не хочу… выделяться внешностью. Так как… я… не лицемер… я ношу сапоги.
Затем он дает мальчику рукопись и кричит: «Четыре скобки, седьмая труба для Нистрэма!» — А потом Фальку:
— Теперь у меня пять минут свободных! Не хотите ли пройтись со мной на склад?
Бухгалтеру:
— Zululu грузит?
— Водку, — отвечает бухгалтер ржавым голосом.
— Имеет сбыт? — спрашивает маска.
— Имеет! — отвечает бухгалтер.
— Ну так, во имя Господне! Пойдемте, господин Фальк!
Они входят в комнату, заполненную полками с кипами книг. Маска хлопает по ним хлыстом и говорит с гордостью:
— Это я написал! Что скажете? Не мало? Вы тоже напишите что-нибудь! Если вы займетесь, как следует, вы напишете столько же!
Он кусал и рвал сигару и выплевывал огрызки; при этом у него был презрительный вид.
— «Факел Искупления»? Гм!.. Нахожу, что это глупое название! Не находите ли вы того же? Как оно пришло вам в голову?
В первый раз Фальк имел случай ответить на его слова, ибо, как все великие люди, он сам отвечал на свои вопросы; ответ Фалька был: «Нет». — Дальше он не мог говорить, ибо маска опять пустилась в ход.
— Я нахожу, что это очень глупое имя! А вы думаете, что оно потянет?
— Я не знаю об этом ничего и не понимаю, о чём вы говорите.
— Вы ничего не знаете?
Он берет газету и показывает.
Фальк с изумлением читает нижеследующее объявление:
«Объявление о подписке: «Факел Искупления». Журнал для христиан. Будет выходить вскоре под редакцией Арвида Фалька, лауреата академии наук. Первый выпуск содержит: «Творения Бога», Гокома Снегеля, поэма в стихах признанного религиозного духа и глубоко христианского настроения».
Он забыл отослать Снегеля, и вот теперь он стоял и не мог ответить!
— Каковы размеры издания? Что? Допустим, две тысячи. Слишком мало! Не годится! Мой «Страшный Суд» выпущен в десяти тысячах, и то я не получаю больше… как сказать… больше пятнадцати процентов нетто!
— Пятнадцати?
— Тысяч, молодой человек!
Маска, очевидно, забыла свою роль и пустилась в старые привычки.
— Вы знаете, — продолжал он, — что я известный проповедник; я могу сказать это без хвастовства, так как это известно всему свету! Вы знаете, что меня очень любят; тут уж я ничего не могу поделать — это так! Я был бы лицемером, если бы я сказал, что не знаю того, что известно всему свету! Ну-с, я помогу вашему предприятию в начале. Посмотрите на этот мешок! Если я скажу, что он полон письмами дам, — успокойтесь, я женат, — которые просят мой портрет, то я не преувеличу.
В действительности же это был только мешок, по которому он хлопал.
— Чтобы избавить себя и их от излишнего труда и вместе с тем оказать человеку большую услугу, я решил дать вам разрешение написать мою биографию; тогда бы первый номер вышел в десяти тысячах и вы тысячу положили бы в карман чистоганом!
— Но, господин пастор (он хотел сказать «капитан»), я ничего не знаю об этом.
— Ничего не значит! Издатель сам писал мне и просил мою карточку! А вы напишите мою биографию! Чтобы облегчить вам труд, я попросил одного друга изложить сущность; вам, значит, остается только написать введение — кратко и выразительно. Теперь вы знаете!
Фальк очень оробел от такой предусмотрительности и удивлялся, что портрет так мало похож на маску, а почерк друга так сильно — на её почерк.
Маска дала ему портрет и рукопись и протянула руку, чтобы дать себя поблагодарить.
— Кланяйтесь… издателю!
Он был так близок к тому, чтобы назвать Смита, что легкая краснота поднялась от его бакенбардов.
— Но вы не знаете моих убеждений, — протестовал Фальк.
— Убеждений? Разве я спрашивал о ваших убеждениях? Я никого не спрашиваю об его убеждениях Упаси меня Бог! Я? Да никогда!
Он еще раз щелкнул хлыстиком по корешкам своих изданий, отворил дверь, показал своему биографу выход и вернулся к своему алтарю.
Фальк не мог, по обыкновению, и в этом была его беда, найти раньше подходящий ответ, чем тогда, когда уже было поздно; он уже был внизу на улице, когда он ему пришел в голову. Отверстие подвала, случайно бывшее открытым (и не заклеенное объявлениями), приняло биографию и портрет. Потом он пошел в ближайшую редакцию газеты, чтобы напечатать объяснение по поводу «Факела Искупления», а затем ожидать верной голодной смерти.
Часы били десять на Риттергольмской церкви, когда Фальк прибыл к зданию риксдага, чтобы помочь хроникеру «Красной Шапочки» во второй палате.
Он спешил, ибо думал, что здесь, где платят, как следует, будут пунктуальны. Он поднялся по лестнице комиссий, и ему указали на левую галерею прессы второй палаты. Он с торжественным чувством взошел на те немногие доски, подвинченные в роде голубятни под крышей, где «люди свободного слова слушают, как священнейшие интересы страны обсуждаются её достойнейшими». Для Фалька это было нечто совсем новое; но им не овладело никакое новое впечатление, когда он глядел вниз со своих лесов и увидел под собой пустой зал, вполне походивший на ланкастерскую школу. Было пять минут одиннадцатого, но кроме него не было ни одной живой души. Несколько минут царило молчание, напоминавшее ту тишину, которая наступает в деревенской церкви перед проповедью. Вдруг скребущий звук донесся через зал. «Крыса», — думал он; но потом он видит напротив себя маленькую придавленную фигурку, чинящую карандаш на барьере; и он видит как стружки летят вниз и ложатся на стол.
Глаза его продолжают ощупывать пустые стены, но не находят точки отдохновения, пока они, наконец, не останавливаются на старых стенных часах времен Наполеона I. Стрелки показывают десять минут одиннадцатого, когда дверь в глубине открывается и входит человек. Он стар; его плечи согнулись под бременем всяких должностей, спина — под тяжестью общественных поручений; что-то заслуженное в его бесстрастных шагах по длинной кокосовой циновке, ведущей к кафедре. Когда он дошел до её середины, он останавливается, — похоже, что он привык останавливаться на полпути и оглядываться; он останавливается и сверяет свои часы со стенными и недовольно трясет своей старой поношенной головой: слишком рано! слишком рано! И лицо его выражает неземной покой, оттого что часы его не могут отставать. Он продолжает идти такими же шагами, как будто бы идет навстречу цели своей жизни; и вопрос, не нашел ли он ее там, в почтенном кресле на кафедре. Когда он достигает цели, он останавливается, вытаскивает платок и сморкается стоя; потом он скользит взором по блестящей толпе слушателей, изображаемой столами и скамейками, и говорит нечто значительное, например: «Господа, я высморкала!» Потом он садится и утопает в председательской невозмутимости, которая могла бы быть сном, если бы не была бодрствованием.
Двери отворяются во всю ширину, члены палаты прибывают, а стрелки стенных часов ползут вперед, вперед. Председатель выражает добрым одобрение кивками и пожатиями руки и наказывает злых, отворачивая от них лик свой, ибо он должен быть справедливым.