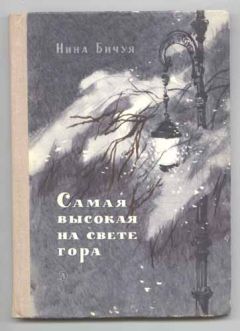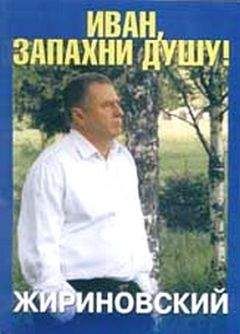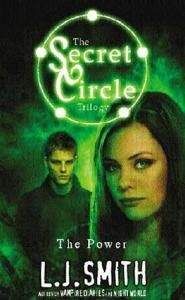Владимир Ляленков - Армия без погон
Трагической оказалась сходка, о которой до сих пор помнят, когда Пружанов, собрав народ, объявил, что бога нет. Религия — это буржуазный пережиток. Церковь закрывается. Иконы в избах надо снять. Для подтверждения отсутствия бога Ефимка нагадил в церкви и было объявлено: церковь превращается в общественный нужник. В ужасе жители разбежались по домам.
Нагадили Пружанов с Ефимкой на бога? Нет! Они нагадили на Советскую власть, на темные головы людей, поколения которых жили куском хлеба, картошкой да религией. Спустя год после этого собрания Пружанов перебрался в уезд, место его занял Ефимка. Баранов пытался представить: что мог натворить тут Сковородников? Но как ни напрягал мозг, путного в голову ничего не приходило.
За короткий срок на вековую темноту обрушились чрезвычайные новости. Убрали царя, которого и помещики считали чуть ли не господом богом. Прогнали помещиков, перед которыми деды и прадеды ломили шапки. Пришла Советская власть — бога нет! Неужто и его тюкнули? А потом поползли слухи о коллективизации. Чего только не шептали друг другу! Избы снесут, построят длинные сараи из железа. Баб, мужиков, девок поселят вместе. Детишки будут общие, хозяйство объединят… В избах ночами горели лампады, бились бабьи поклоны: пронеси, господи!
Перед войной приступили к организации коллективных хозяйств. Каждая деревня — отдельный колхоз. Не желающим вступить в колхоз давали «твердое задание» — отсылали на лесоразработки как саботажников. Уездное начальство говорило, что жить будет лучше. Но почему лучше? Все доводы вязли, тонули в простейших рассуждениях:
— Где ж богачество будет? Петр Скородумов с бабой своей встают до света, работают дотемна. А Зинаидовы продирают глаза к полдню. Своей корове сена наготовить не могут!
Потом пришла война. Всю войну был в Вязевке председателем некий Золотарев, уехавший потом в Ленинград со своей семьей. В эти места немцы не дошли, их задержали у Тихвина. В Клинцах, в Вязевке и в других деревушках одну зиму был расположен госпиталь. Бойцам отдали всю скотину, картошку… Но зачем вспоминать, что принесла война в деревню и что вынесла из нее. Не стало мужиков. Нет скота. Бабы лопатами вскапывали огороды, поля. Голодали. А после войны за одиннадцать лет здесь побывало тринадцать председателей!
— Тринадцать! — шептал Баранов, узнав эту новость, и по-бабьи повторял: — Боже, боже мой!..
Что это? Разврат властей? Вредительство?
— Да одно частное хозяйство, если в нем каждый год менять хозяина, через несколько лет погибнет, зачахнет… Как бы между прочим я расспрашивал о бывшем председателе, — Баранов улыбается слабой улыбкой больного, — из тринадцати в памяти людей остались несколько. Большинство не оставило никакого следа. Был председатель, уехал и все тут…
Помнят деревенские какого-то Зарудного, видимо, он был из хохлов. Высокий, «просто громадный», с коротко остриженной головой и бычьей шеей, Зарудный остался в памяти человеком, обладающим чрезвычайной силой.
— Что твой Зарудный, — говорят теперь на деревне, отличая сильного человека.
Зарудный мог выпить за один присест две бутылки водки. И не пьянел, а только краснел лицом немного. Однажды на мостике провалились сани с сеном. Мимо проезжал Зарудный. Подошел к возу, «…добрался рукой до полоза саней, уперся вот так-то, растопырив ноги, напрягся и вывернул сани».
Баб водил на работу строем. Как рявкнет: «Бабы, смиррр-но!» — во всех избах слышно было.
Помнят Шкапелика Ивана Ивановича, тихого, вежливого человека. Никогда не ругался. Кто попросит у него денег взаймы, если есть, давал, а долг никогда не требовал. Лунатиком жил около года. Ходил всегда пешком. Жил он у Полковника. По вечерам читал книжки, писал что-то. Сидит, сидит над бумагами, закроет глаза и шепчет:
— Да, да… Видимо, я просчитался… ошибка вышла.
— В чем ошибка, Иван Иваныч? — спросит Полковник, надеясь высказать свои какие-то познания, которыми он гордился.
— Это я так… про себя.
Во сне разговаривал, махал руками. Полковничиха побаивалась: вдруг он припадочный?
Шкапелик приобрел невод за свои деньги.
Мужики вначале полазили в озере и забросили рыболовство. Сети куда-то исчезли. Когда Шкапелик уехал, появились сети у Полковника и у заветовского бригадира. И оба некоторое время рассказывали на деревне, как они копили деньги, как покупали сети в городе.
Память о себе оставил Боровиков — при нем проводили электричество, думали, делается это благодаря председателю: он пил с монтерами, выплачивал им деньги, хлопотал насчет проводов. А преемник Боровикова сказал, что тот никакого отношения к электричеству не имел. Занимается этим делом организация «Сельэлектро», у которой есть план. По плану очередь дошла до Вязевского сельсовета…
Побывал здесь даже московский грузин по фамилии Кутубидзев. Он внес в деревню невиданное до тех пор оживление, о котором до сих пор деревенские вспоминают с удовольствием.
После собрания Кутубидзев не раздумывал, где бы ему поселиться. Задал вопрос бухгалтеру Вертечкову, стоявшему рядом с новым хозяином:
— Где тут живет продавщица из магазина?
— Из какого? — ласково осведомился бухгалтер. — У нас их два.
— Из продуктового.
В продуктовом работала жена бухгалтера Раиса. Конечно, в избе Вертечкова нашлась кровать с пухлой периной. Кутубидзев не повторял вариантов своих предшественников, в расспросы, в беседы не ударялся. Предшественников не бранил. Вызвал в кабинет бригадиров, сказал им:
— Вот что, друзья мои. Я честный человек и говорю вам открыто: здешнего сельского хозяйства я плохо знаю. Но освоюсь быстро. Единоличие власти в процессе работы отдаю каждому из вас. Все вопросы решайте сами. Мне будете докладывать в установленные сроки. Смотрите у меня! Партия дала мне задание, кто не выполнит моих предписаний, — он оглядел соколиным взором бригадиров, — тогда узнаете. Я церемониться долго не буду…
Приехал Кутубидзев после уборочной, из-за которой полетел его предшественник. А с первым снегом впервые появилась компания хохлов: все здоровые, мордастые. В новых полушубках, валенки обшиты кожей. Приехали хохлы на своих лесовозах, поселились в избе Молочкова. Нагрудные карманы у них были набиты денежными аккредитивами. У каждого справка: дана правлением колхоза такому-то в том, что ему доверяется заключать договоры с организациями, частными лицами. Производить расчет как наличными, так и по безналичному расчету.
«Восход» продал на корню восемь тысяч кубометров строевого леса. Это по документам. Сколько было вывезено на самом деле, никто не знает. В лесу, в деревне кипела работа. Украинцы не тянули с оплатой, рассчитывались ежедневно.
Работали днем, ночью. Ревели эмтээсовские тракторы. Один трактор с прицепленным к нему громадным треугольником, сколоченным из бревен, патрулировал по маршруту Вязевка — станция Кедринская, расчищал для лесовозов дорогу от снега.
В руках мужиков шелестели червонцы. Раиса чаще ездила в сельпо — полки с вином быстро пустели. Акиньевна сбилась с ног — то и дело среди ночи стучали в дверь:
— Акиньевна, открывай гостиницу!
К апрелю исчез с лица земли Дальний сосновый бор. По документам мачтовые звонкие сосны прошли деловой древесиной третьего сорта по восемьдесят рублей за кубометр. Сколько на самом деле уплатили украинцы, никто не знает. Об этом даже не задумывались люди. Были довольны тем, что получили за повалку, трелевку, погрузку леса.
— Я не то, что другие, — распространялся обросший бородкой Кутубидзев, — вы ничего не получали на трудодень. Я вам заплачу по десять рублей!
После посевной Кутубидзев уехал.
Потом руководил хозяйством некий Сторублевцев. Помнят его из-за звучной фамилии.
Потом какой-то Кириенко. А перед Барановым был Иван Захарыч Стольников, он сейчас работает в Кедринске начальником снабжения СУ-4. При Стольникове и было произведено укрупнение колхоза. Тогда и вошли в «Восход» Клинцы, Ястребовка, Тутошино…
Баранов метался по холодной избе: загадили деревню! Да, да! По документам в колхозе две тысячи гектар пахотной земли, столько же сенокоса. Но где все это? Клинцы скоро обрастут кустарником. Да что земля! Людей искалечили! В тех же Клинцах живет, например, Мотя Раевская: шесть человек детей, старуха-мать живет, не слезая с печи. Завшивела. Ест, что сунут ей на печь. А не сунут, так и так. Дети Мотины не похожи друг на друга. Самая старшая Маруся, ей лет двадцать. Красива, глаза с поволокой. Говорят, она копия Моти, такой же красавицей была Мотя в молодости. Остальные дети мал-мала меньше. Один мальчик краснорыжий, другой черноволосый, с горбатым носом — вылитый Кутубидзев.
— Где насобирала столько, Мотя? — спросил ее Баранов как-то.
Та ответила с улыбочкой, но невесело: