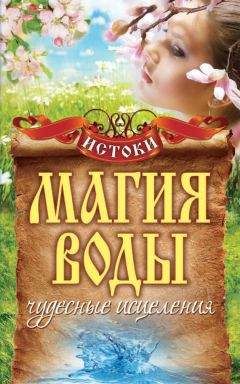Валерий Поволяев - ЕСЛИ СУЖДЕНО ПОГИБНУТЬ
— Там, кроме Гайды и Чечека, есть еще Каппель, — осторожно вклинился в разговор адъютант, мазнул пальцем по тонким черным усикам.
— Каппель? Не знаю такого. Но будь уверен — узнаю! И спущу штаны с толстой белой задницы. Прикажу сечь плетками до тех пор, пока задница не будет располосована на ремни.
Певички дружно засмеялись. Чудошвили тоже засмеялся — ему нравился шеф, умеющий так красочно изъясняться.
— Ну что, скоро там Симбирск? — повернувшись к охране, спросил Муравьев.
— Сейчас узнаем, — склонил голову один из охранников, низкорослый, широкоплечий грузин. Через несколько минут он доложил, нагнувшись к уху главнокомандующего: — Капитан сказал — остался час хода.
— Через час будем в Симбирске, — громко провозгласил Муравьев, подхватывая со стола бутылку с шампанским, ловко разлил вино по фужерам — налил дамам и себе, адъютанту наливать не стал — чин не тот.
Чудошвили, всем своим видом показывая, что нисколько этим не ущемлен, сам наполнил себе фужер.
— Почистим этот город, покажем местным сундукам, как правильно произносить слово «Ленин». — Муравьев перевел взгляд на адъютанта: — А ты — Каппель... Если же найдутся инакомыслящие, то... — Муравьев сжал руку в кулак, кулак был крепкий, тяжелый, словно налитый свинцом. — Инакомыслие лучше всего ликвидировать вместе с его носителями. Чтобы больше ни у кого не возникало никаких вопросов. Главное — с именем Ленина не свернуть с ленинского пути.
Муравьев говорил грамотно, умел убеждать, и хотя в голове у него был сумбур, идти по ленинскому пути он не собирался. Одно дело — адъютант, похожий на кудрявого барана, и эти профурсетки с аппетитными ляжками, и совсем другое — Тухачевский, с которым он очень скоро поведет душевный разговор. Как дворянин с дворянином. С глазу на глаз.
Тухачевский в это время находился на Симбирском вокзале, его вагон стоял в небольшом зеленом тупичке, метрах в семидесяти от здания вокзала. Инфлюэнца никак не могла отвязаться от командующего, продолжала трепать, и Тухачевский зябко кутался в старую шинель.
Адъютант предложил ему свою шинель, новенькую, сшитую из превосходного генеральского сукна, но Тухачевский вежливо отказался.
— Михаил Николаевич, но вы же — командующий! — с неожиданной обидой воскликнул адъютант.
— Ну и что?
— Не понимаете вы большой революционной значимости своей фигуры, Михаил Николаевич!
Тухачевский промолчал. Он пытался выстроить в мыслях предстоящий разговор с нервным, кокетливым, горячим как кипяток — именно, так только что ему охарактеризовали главнокомандующего — Муравьевым... Только в кипятке этом чаю не заварить. И вот ведь как — разговор этот у него никак не получался. Hе склеивался, не выстраивался. В конце концов Тухачевский перестал заниматься этим бесплодным делом: и начаться и закончиться разговор с главнокомандующим должен был благополучно.
Муравьев, Каппель... В бинокль Тухачевский увидел знамя, под которым каппелевцы шли в атаку. Знамя было красного цвета. Что бы это значило?
Тухачевский воюет под красным знаменем, и Каппель тоже воюет под красным... Одновременно они безжалостно молотят друг друга, русские — русских. Тухачевский вытащил из кармана сверток со снадобьями, вытряхнул из него один пакетик.
Врач рекомендовал порошок растворить в стакане воды и выпивать, оставляя малость на дне — там остается шлак, вредный для организма, его надо обязательно вытряхивать, поскольку от шлака этого не только в почках, но и в желчном пузыре и в мочеточнике образуются камни, — но возиться с водой, растворять порошок Тухачевскому не хотелось, и он высыпал порошок прямо в рот. Запил тепловатой, противно пахнущей болотной тиной водой. Спросил вслух, ни к кому не обращаясь:
— Ну, где же Муравьев?
А Муравьеву еще только подали второе — с кухни принесли барашка, приготовленного по степному рецепту, в собственном соку. Готовится такой баран долго, несколько часов, томится на медленном огне, мается. Но зато вкус у него не сравним ни с чем. Десяток живых баранов на «Межень» доставили аж из-под самой Астрахани. К подносу с томленым бараном повар поставил три бутылки настоящего французского «Божоле».
— Вино, ваше высокопревосходительство, — м-м- м! — Повар сложил пальцы в щепоть и звучно чмокнул. Он называл Муравьева «вашим высокопревосходительством», как генерал-лейтенанта, и Муравьев против этого не возражал, хотя в Красной Армии было совсем другое обращение — «товарищ». — В самый раз вино. «Божоле», которое делается из винограда сорта «гамэ», — на мой взгляд, лучшее вино в мире, — продолжал заливаться повар, которого Муравьев отыскал в Санкт-Петербурге, увез с собою на фронт в Румынию, в Киеве поселил в лучший особняк на Крещатике, а на «Межени» отвел ему каюту по соседству с капитанской, предназначенную для царского наследника.
— «Гамэ», — зачарованно повторил вслед за поваром Муравьев, повернулся к одной даме, потом к другой, подмигнул им и поднял указательный палец: — Это — великолепный виноград.
— На всякий случай, если барашка окажется мало, я еще приготовил телятину и стерлядь, все с легкими соусами. «Божоле» тяжелых соусов не терпит. Лучше стерляди могла быть семга, но, ваше высокопревосходительство, семга — северная рыба, а поставки с севера к нам временно затруднены.
— Да-да, — рассеянным тоном произнес Муравьев и сделал рукой жест, отпуская повара. Тот удалился.
Уже был виден Симбирск — колокольни, соборы с золочеными куполами, справные купеческие дома, вставшие на высоких волжских откосах.
По берегу, следом за пароходами Муравьева двигались неуклюжие, похожие набольших неповоротливых жуков броневики; битюги, запряженные попарно, тянули тяжелые пушки. Бывший гвардейский полковник представлял собой грозную силу, способную свернуть голову кому угодно.
И Муравьев это осознавал. Барашек, приготовленный в собственном — чуть горчившем от приправ — соку, показался Муравьеву лучше холодной курицы. Он похвалил повара:
— Молодец! Много лет знаю этого человека и ни разу в нем не ошибся.
Певички, сидящие рядом, вели себя манерно — мясо отщипывали крохотными кусочками, оттопыривая прелестные мизинцы, отправляли эти крохи в рот. Муравьев не удержался от едкого замечания:
— Не будьте курицами!
Певицы в ответ жеманно улыбнулись.
— У нас еще десерт есть. — сказал молчавший Чудошвили. Говорил он е таким акцентом, что иногда его невозможно было понять — искажал все до единой буквы алфавита. — Шампанское и ананасы.
— Свежие ананасы или консервированные? — деловито осведомился Муравьев.
— Свежие, — проклекотал горец.
День был жаркий, небо блистало голубизной, будто было покрыто лаком, на огромном пространстве от горизонта до горизонта не было видно ни одного облачка, на колокольнях грохнули звоны. Звук колоколов был хорошо слышен.
— Сегодня что, праздник какой-то? — недоуменно поинтересовался Муравьев.
Адъютант пожал плечами:
— Не знаю.
Точно такой же вопрос задал своему адъютанту Тухачевский.
— Троица, — ответил тот, — великий православный праздник. Пятидесятница.
Тухачевский понимающе кивнул.
Через полтора часа на набережную вывалилась толпа матросов, одетых во все черное. Их тяжелые маузеры в деревянных коробках болтались на длинных тонких ремешках, мешали шагать, а уж при быстрых перемещениях по пространству, когда надо было проявить ловкость и ухватить за зад какую-нибудь смазливую бабенку, вообще становились настоящим препятствием: ремешки, попав в широкий шаг, запутывали ноги, и революционный матрос прикладывался всей мордой о булыжную мостовую.
Несколько таких случаев было зафиксировано в тот день в славном городе Симбирске.
Муравьев встретился с Тухачевским на вокзале — ему сказали, что командарм-один болен, почти не выходит из вагона, и главнокомандующий поехал к командарму.
Разговор между ними не получился, хотя оба они, и Тухачевский, и Муравьев, были гвардейцами. А все гвардейцы, как земляки, — родственные души.
— Отсюда, из этого маленького пыльного городка, начнется освобождение Европы, — патетически провозгласил Муравьев.
Тухачевский дипломатично промолчал. Хотел было сказать, что в этом «маленьком пыльном городке» родился Ленин, но не сказал, промолчал. Муравьев еще несколько минут говорил о том, что значит мировая революция для Европы, из Европы она перекинется в Америку, а потом вообще охватит Галактику, потом неожиданно оборвал свою пламенную речь и спросил у Тухачевского:
— Вы коммунист?
— Коммунист.
— А почему в драной шинели ходите?
Сам Муравьев был одет как актер из оперетты: на плечи накинул роскошную, расшитую малиновыми и серебряными цветами венгерку, под венгеркой — диковинная желтая рубаха из тончайшего шелка, наряд дополняли алые чикчиры и сабля, украшенная дорогими каменьями. На пальцах сияли перстни.