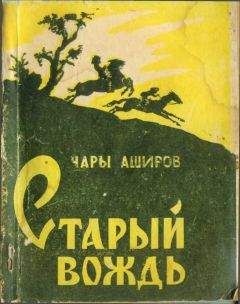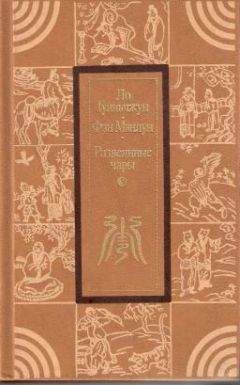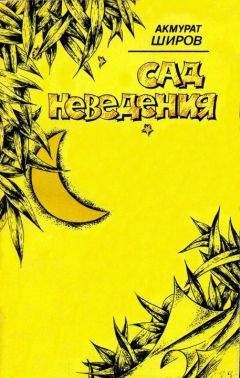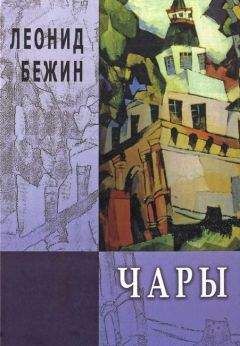Казимеж Брандыс - Граждане
— Это кафе очень старое, — сказал он, оглядывая зал, — наверное, старше меня. Я здесь сегодня впервые после войны.
— Оно, кажется, не закрывалось и в годы оккупации? — отозвалась Агнешка.
— Не знаю. В те годы я не ходил в кафе. — Он рассмеялся. — Я сидел в лагере для военнопленных, в Вольденберге около Пилы.
Ухватившись за эту тему, он стал рассказывать о жизни в лагере. Агнешка умела слушать. Моравецкий вспоминал, как они, выйдя на свободу, шли пешком домой, в Польшу, как он много недель в Варшаве разыскивал Кристину, вывезенную гитлеровцами с госпиталем повстанцев.
— Мы нашли друг друга только в конце марта, — сказал он. — В одно прекрасное утро меня разбудил ее голос в соседней комнате. Понимаете, после шести лет разлуки… Я тогда жил у Дзялынца, и она меня там отыскала.
В быстром, немного помрачневшем взгляде Агнешки он прочел впечатление, какое произвела его последняя фраза, — и пожалел о ней: к чему было упоминать о Дзялынце, о том, что он у него жил, стоит ли подчеркивать их близость?
Им овладело беспокойство, но раньше чем он успел понять, откуда оно, он рассердился на себя за эти мысли и вспомнил собственные слова, сказанные всего четверть часа назад: «Мне бояться нечего: мое прошлое чисто».
Он выпил глоток кофе и отодвинул чашку.
— Мы с Дзялынцем знакомы вот уже около двадцати лет. С университетской скамьи.
— Да, я слышала, — кивнула головой Агнешка.
Но Моравецкий этим не удовлетворился.
— Я считаю его честным человеком, — сказал он веско. — Он переживает сейчас трудную полосу… И надо же понять…
— Вы говорили с мальчиками? — перебила Агнешка. Он встретил ее ясный, спокойный взгляд.
— Говорил.
— И что же?
— Да ничего.
Он пересказал ей весь разговор. Правда, о ехидных репликах Свенцкого он умолчал, оставив при себе эту добавочную порцию горечи. Привел только доводы Кузьнара и свои.
— Кажется, я их не убедил, — сказал он в заключение, пожимая плечами. — Они видят в Дзялынце врага — и только. А психология представляется им наукой подозрительной в политическом отношении. Даже такой разумный парень, как Кузьнар, не хотел меня слушать. Под конец я им закатил целую адвокатскую речь! Да что толку? В их возрасте я был буквально весь соткан из сомнений и колебаний. Они же, если испытывают когда-нибудь колебания, так это похоже на колебание железобетонного небоскреба: где-то там на двадцатом этаже он как будто едва заметно дрожит. А я и сейчас — вроде, старого двухэтажного дома: стоит по улице проехать экипажу, и уже трясутся стены, дребезжат окна… Нет, мы с ними ни до чего не договорились.
Он поднял глаза на Агнешку и понял, что не найдет в ней союзника. «Вот так свидание! — подумал он с горькой иронией. — Свидание, на котором приходится взвешивать каждое слово». Он всматривался в нее с огорчением и удивлением: не хочет она его понять, эта хорошенькая девушка с умным и смелым взглядом, с белокурой прядью волос над строгими бровями. Он почувствовал себя одиноким. Откуда все они взяли, что имеют право его осуждать? Ведь он старше Агнешки почти на двадцать лет, а мальчиков — на двадцать с лишним.
Им вдруг овладела апатия, сонное равнодушие. Он не понимал, зачем сидит с этой девушкой в опустевшем кафе.
— А вы не думаете, пан Моравецкий, что Дзялынец умышленно спровоцировал мальчиков? — спросила внимательно наблюдавшая за ним Агнешка.
— Конечно, нет! — так и вскинулся Моравецкий. — Что за идея? — Он замолчал на миг, словно проверяя собственные мысли, и повторил: — Нет, нет!
— А я уверена, что да, — сказала Агнешка. — И, мне кажется, в глубине души вы со мной согласны. Вы просто не хотели сознаться в этом мальчикам, а теперь и мне. Правда?
— Что вы выдумываете? — прикрикнул на нее Моравецкий. Он поправил очки и через минуту добавил сухо: — Пожалуйста, не приписывайте мне мыслей, которых у меня нет и не было. Я ведь не школьник четвертого класса.
— Давайте отложим этот разговор, — сказала Агнешка тихо, с едва заметной улыбкой. — Вы сегодня нервничаете.
Моравецкий беспокойно заерзал на стуле.
— Извините меня, — сказал он уже спокойнее.
Агнешка подняла брови, словно спрашивая: за что?
Она была сторонницей откровенных разговоров и терпеть не могла мещанских условностей.
— Удивительная вы девушка, — с улыбкой сказал Моравецкий помолчав. — Любопытно, что вы думаете о таких ихтиозаврах, как я?
Агнешка не ответила на улыбку. Она смотрела на него серьезно, с теплым дружеским интересом.
— Думаю, что вряд ли пан Дзялынец достоин вашей дружбы. Вы не сердитесь, что я так говорю.
— Ну, что вы! — буркнул Моравецкий в замешательстве.
Тут уже улыбнулась Агнешка. Подняла руки, чтобы поправить волосы. Он следил за каждым ее движением.
— Не в дружбе тут вовсе дело, — запротестовал он, когда Агнешка намекнула, что мальчики, вероятно, такого же мнения, как она, и, любя его, хотят эту дружбу подорвать. — Хороша дружба! Она только связывает мне руки, когда я пытаюсь его выручить. Дружба! Да мы с Дзялынцем уже не находим общего языка. Что-то встало между нами — и, кажется, навсегда.
Он умолк в смущении, сообразив, что сам же подсказал Агнешке доводы против Дзялынца. Ведь она поймет, что не об окраске осенних листьев и не о поре цветения сирени они спорили с Дзялынцем.
Ему хотелось выпить еще несколько глотков кофе, но чашка была пуста. Он подозвал официантку: — Пожалуйста, еще чашку. — Он был расстроен и охотно ушел бы сейчас, чтобы избежать вопросов Агнешки.
— Здравствуйте, — Агнешка кивнула кому-то.
За соседний столик сел мужчина в пиджаке грубого сукна. Поклонившись Агнешке, он достал из кармана газету. Моравецкий напряженно молчал, созерцая струйки разлитого на столике кофе.
Однако Агнешка не задала ни единого вопроса. Она была неговорлива. И Моравецкий понемногу успокоился. Когда ему подали кофе, он поднял глаза и улыбнулся Агнешке с чувством, похожим на благодарность.
— Извините, я сегодня все не то говорю… У меня дома неблагополучно… И разговор с мальчиками немного потрепал мне нервы… Всё разом…
— Они хотели вам помочь, — сказала Агнешка. — Конечно, на свой лад. Ну, и от вас ждали поддержки.
— Очень уж они недоверчивы, — тихо сказал Моравецкий.
Агнешка покачала головой.
— Нет, просто им нужно, чтобы люди, которых они любят, разделяли и как бы утверждали их взгляды на жизнь. Если вы обманете их ожидания, они, мне кажется, никогда не простят вам этого.
— А если и я обманут? — спросил вдруг Моравецкий.
Но, встретив огорченный и дружелюбный взгляд Агнешки, он поспешно опустил глаза.
— Я сейчас ни в чем не уверен, — бросил он жестко.
Несколько минут никто из них не нарушал натянутого молчания. Моравецкий думал: «И зачем я все это говорю?»
Агнешка сидела, подперев голову рукой и слегка наморщив брови.
— А во время оккупации вы встречались с Дзялынцем? — спросила она наконец, рассеянно помешивая давно остывший кофе.
— Но я же был в лагере, — с недоумением возразил Моравецкий, — а он всю войну оставался в Варшаве.
— Да, правда, ведь вы были в лагере.
Он посмотрел на часы: четверть четвертого. Полез в карман за деньгами.
— Собственно, мы так мало знаем о людях, — промолвила Агнешка словно про себя.
Моравецкий поднял брови.
— Отчего же? На то есть анкеты, — возразил он с добродушной насмешкой.
— Я не о том…
Когда они выходили, мужчина, сидевший за соседним столиком, поздоровался с Агнешкой за руку. Одеваясь в прихожей, у самой двери в зал, Моравецкий видел, как они разговаривают, стоя на лесенке, которая вела во второй зал. Знакомый Агнешки что-то объяснял ей, часто кивая головой, а ответы ее выслушивал внимательно, потирая пальцами подбородок. Это был человек средних лет, невысокий и плотный, с гладко выбритым одутловатым лицом.
— Это Лэнкот из «Народного голоса», секретарь редакции, — вернувшись, пояснила Агнешка Моравецкому. — Он заказал мне статью об общеобразовательных школах.
— Поздравляю, — отозвался Моравецкий рассеянно. — Значит, будет у нас свой польский Макаренко.
Агнешка засмеялась и стала объяснять, что ей, чтобы сводить концы с концами, приходится время от времени подрабатывать на стороне. Не умеет она жить расчетливо и всегда к концу месяца влезает в долги. Они дошли до остановки автобуса номер 100 («сотки»), где стояла длинная очередь. Моравецкий в первый раз подумал о том, что Агнешка круглый год носит эту самую кожаную куртку с коричневыми пуговицами. Зимою она приходила в школу озябшая, но веселая, и при виде ее румяных щек и заиндевевших волос он всегда словно заражался от нее бодростью и хорошим настроением.
— Ну, я на Жолибож, — сказала она, протягивая ему руку. — Не огорчайтесь, все обойдется.