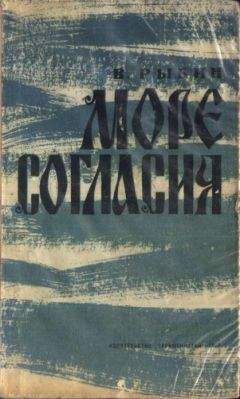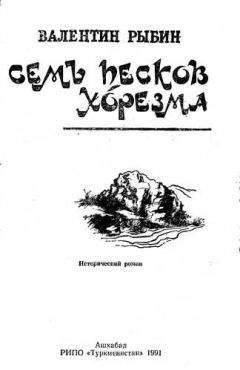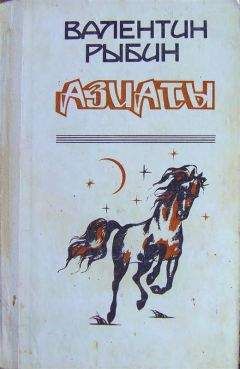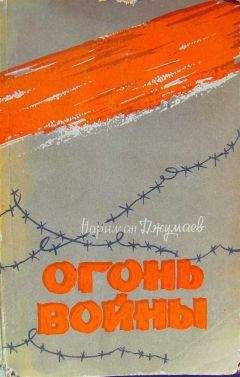Владимир Петров - Черемша
Комендантша "маялась поясницей", а на самом деле полдня, запершись, проспала в своей каморке — Фроська слышала, как она похрапывала, простуженно сипела носом. Когда явились с работы девки, Фроська, заголив подол, домывала нижнюю ступеньку крыльца.
Размахивая веником, никого не пускала в барак, требуя снять грязную рабочую обувь. Девки напирали, горланили, ругались: многие торопились переодеться да поспеть в клуб, там сегодня крутили новое кино "Ущелье аламасов".
— Скидывай обувку! — кричала Фроська. — Вы, паразитки, небось в свою-то избу не потащите грязь. А сюды можно?
— Кто приказал? — шумели девки.
— Комендантша, — соврала Фроська.
Принялись барабанить в окно комендантши. Та проснулась, испуганно выскочила в коридор, увидала выскобленные полы, пихтовый лапник, мигом сообразила и стала собирать у топчанов и выбрасывать в окна домашние тапочки. У кого тапочек не оказалось, тех Фроська пропускала только босиком: ничего, теперь лето — простуда не схватит.
Уже когда в барак прошли все девки, на крыльце возле Фроськи задержалась последняя — рослая, ладно и крепко сбитая, в полинялой майке-футболке, под которой рельефно угадывался тугой лифчик. Виделось в ней нечто размашистое, да и стрижена вроде бы под парня — на затылке рыжеватые волосы, срезанные аккуратным уступом. Она рассматривала Фроську пристально, чуть насмешливо, поставив на ступеньку ногу в закатанной штанине.
— Новенькая?
— А то не видишь? Новенькая.
— Уборщица?
— Не. На плотину устроилась.
— Откуда сама-то?
— Откуда надо. К примеру, с кудыкиной горы.
— Ишь ты! Сердитая какая! — усмехнулась рыжеволосая, не спеша поднялась на крыльцо. Оттуда ещё раз, со спины, уважительно оглядела Фроську. — Гарная у тебя коса, прямо роскошная! Однако придётся тебе её срезать, иначе намучаешься. Ради той же самой гигиены!
— Чего, чего? — Фроська обернулась, зло прищурилась, показала фигу. — На-кось, выкуси!. Буду я косу резать ради вашей гигиены! Чего захотела! Мыться надо почаще, а то вы тут, я гляжу, все дерьмом поросли.
Рыжеволосая не обиделась — расхохоталась. Смех у неё был приятный — лёгкий, соблазнительный, такой, что и у других непременно вызывает улыбку. Искренность, доброта явно исходили от этой статной, грудастой молодухи.
— Слушай, — сказала она, опускаясь на ступеньку ниже. — Иди ко мне в бригаду.
— А ты кто такая?
— Я — бригадир бетонщиц Оксана Третьяк. У меня одни девчата-харьковчанки, с Украины. Так пойдёшь?
— Подумаю… — степенно сказала Фроська.
— Ну, думай, думай. А вообще, ты мне нравишься: люблю колючих.
Бригадирша убежала в барак, а Фроська только потом сообразила, что ведь саму-то её тоже определили в бетонщицы, поставили, как сказал кадровик, "на бетонорастворный узел". Уж не в бригаду ли к этой рыжухе? Зря не спросила… Ну-ин ладно, завтра поутру на стройке всё одно выяснится.
В клуб на кинокартину Фроська не пошла, не хотелось в первый день на люди лезть. Да и не любила она кино, в Стрижной Яме прошлым, летам сходила как-то украдкой — сельские девки подговорили (мать Авдотья на Успенье посылала их с покойной Ульяной-хроменькой "на побирушки"). Не понравилось, вовсе не поглянулось — целуются люди, в постель друг к дружке лазят, всякие непристойности вытворяют, а ты сидишь и вроде бы в дверную щель чужую жизнь подглядываешь… И непонятного много: что-то написанное промелькнёт, — а прочитать, слово сложить, не успеешь. Не то что псалтырь, где каждую буковку не спеша ногтем пометить можно.
Вечерний барак, будто разворошённый муравейник: девки шныряли по проходам, штопали, гладили, одеколонились, наводили румяна, чистили туфли, бегали в бытовку жарить картошку, кружками тащили кипяток из титана. За стенкой ссорились семейные, на завалинке под окнами наяривала трёхрядка. Фроська сидела на своём топчане, жевала зачерствелую шаньгу, жмурилась — от яркого электрического света, разноцветных тряпок, людского многоголосья у неё с непрывички мельтешило в глазах. Ну базар, ну шабаш ведьминский! Это как жить-то тут при таком столповороте? Очумеешь.
Девки Фроську не трогали, не задевали, а ежели которая по надобности пробегала мимо, отворачивались, пренебрежительно скривив губы. Им, видишь ты, Фроськины бутылы не понравились, дескать, дурно дёгтем пахнут. А Фроське плевать — мало ли кто чем пахнет? Ей вот, к примеру, самой одеколон вонючий не по нутру, а терпит же, не кричит, не кривляется.
Одна вон тут соседка, эдакая сыроежка-пигалица, давеча попробовала хвост подымать, уму-разуму учить: ты такая, ты сякая, некультурная да необразованная, бревно бревном. И вообще, полено с глазами, религиозным дурманом повитое. Сей же час убирай икону с тумбочки, а не то саму вместе с топчанам в окно выкинем. И ручищи тянет к иконе, это к пресвятой-то Параскевии!
Фроська дала ей по рукам и сказала: "Ежели ещё раз сунешься, так врежу, что неделю плохие сны видеть будешь!" Убежала к комендантше жаловаться.
Ну и живут люди, ей-богу! Каждый каждого старается под себя переделать: будь таким, как я. А одинаковые люди, человеки-гривенники, кому они нужны?
Вот хотя бы девки — ведь разные все, а тоже, гляди, под одну дуньку выряжаются. На всех косынки одинаковые, майки трикотажные, да и стрижены все на одни манер, под мальчишку — "фокстрот" называется. Тошнотное однообразие Фроське и в ските опостылело, но там обряд, монастырский устав. Здесь, говорят, мода. Неужто и ей придётся напоказ груди обтягивать, коленки голые выставлять, чёрным угольем брови мусолить?
А пропади вы все пропадом! Фроська рассерженно шмыгнула носом, втянула спёртый барачный воздух, пахнущий пудрой, ваксой, жареной картошкой. Уйду, ежели не понравится. Тайга-то большая…
Из Фроськиного угла хорошо видна была противоположная передняя половина барака — там раздавала клубные билеты Оксана своим "харкивянкам". У них в углу интереснее: на стене вышитые полотенца, картинки и большая разноцветная карта. Фроська ещё днём её разглядывала, да только мало что поняла. Карта показалась ей заманчивым окном в огромный мир, но окном смутным, полупрозрачным, через которое ничего толком не разберёшь, вот как бывало через слюдяное окошко монастырской бани. Города обозначены, реки, моря и озёра — велик и непонятен белый свет, во все стороны вокруг Черемши раскинулся…
А они, чернявые Оксанины девчата, оказывается, чуть ли не с края света сюда приехали. Из-под какого-то Харькова. Чудно получается… То ли им там туго жилось, то ли здесь рабочих рук не хватает? А может, женихов поискать в другие края подались? Да уж какие тут в Черемше женихи — шантрапа одна, голь перекатная.
Фроську дважды звали к комендантше, но она и бровью не повела, лениво и мрачно дожёвывала монастырскую шаньгу. Лишь после того, как барак опустел и ватага девчат вместе с гармонистом прошествовала мимо окон в кино, Фроська поднялась, сняла с тумбочки и спрятала под подушку икону и направилась к комендантше.
Та кормила котов ужином: каждому наливала в баночку парное молоко.
— Непутёвая ты, Фроська, — вздохнула комендантша. — Работящая, а непутёвая.
— Какая есть, — сказала Фроська.
— Пошто дерёшься-то?
— А я так живу: меня не трогай, и я не трону.
— Кто тебя трогал?
— А та пигалица лупоглазая. Иконку почала лапать.
— Иконку? — сразу оживилась комендантша. — Какая иконка-то?
— Пресвятой Параскевы-пятницы.
— Да ты, никак, верующая, девонька? — старуха торопливо взяла с подоконника очки, нацепила их и стала уважительно рассматривать Фроську. — В бога веруешь, моя хорошая?
— До этого никому дела нет! — сухо сказала Фроська, отпихивая кота, который вздумал тереться о ногу мордой, вымоченной в молоке. — Брысь, кошлатый!
Комендантша засуетилась, торопливо расчистила стол, заваленный всяким барахлом. Перед самоваром поставила уже знакомые Фроське замызганные чашки. Правда, в очках-то она разглядела, наконец, какие они грязные, и, охнув, бросилась за полотенцем.
Когда старуха сдёрнула со стены вафельное полотенце, у Фроськи удивлённо обмерло сердце: под полотенцем, оказывается, висел телефон — аккуратная деревянная коробка с блестящими штучками — точно такой она видела утром в сельсовете!
— Да ты садись, садись! Чай-то с сахаром будешь пить али с вареньем? — тараторила комендантша, обхаживая Фроську, как какую-нибудь желанную гостью — близкую родственницу.
Кержачка, поняла Фроська, наверняка беспоповка-федосеевка. Здесь в Черемше у них и моленная была когда-то, а черемшанские мужики, помнится, бадьи с мёдом привозили в Авдотьину пустынь, для даров. Не проговориться бы, что беглая монашка… Упаси господь!
Отвечала односложно, дескать, верую — сама по себе, и живу сама по себе. А что касательно общин кержацких, про то не ведаю. Теперь вот работать пошла, в люди выходить надобно — такая нынче жизнь.