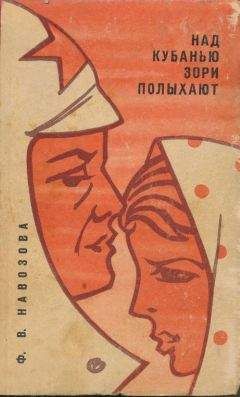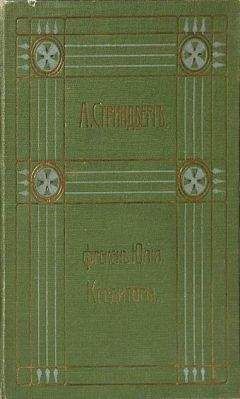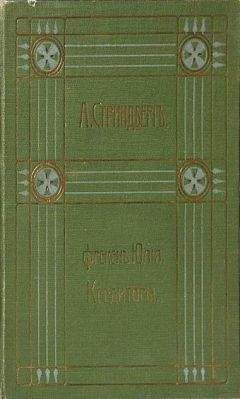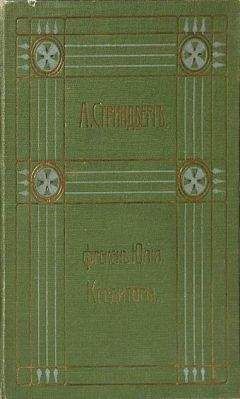Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 4. Красная комната
Брошюрка эта была составлена для немецкого общества, называвшегося «Нерей», и вкратце содержала следующее: господин и госпожа Шлос эмигрировали в Америку и приобрели там большое поместье, которое они, чтобы сделать возможной эту брошюру, довольно непрактично превратили в дорогую мебель и безделушки. Чтобы всё это непременно погибло и чтобы ничто не могло быть спасено, они послали эти вещи вперед на первоклассном пароходе, № 326 общества Veritas, по имени «Вашингтон», который был обит медью, снабжен водонепроницаемыми перегородками и застрахован в большом немецком акционерном обществе «Нерей» в 400.000 талеров. Сами же господин и госпожа Шлос отправились с детьми на лучшем пароходе Уайт-Стар-Лейна «Боливаре», застрахованном в страховом обществе «Нерей» (основной капитал 10.000.000 долларов), и прибыли в Ливерпуль. Путешествие продолжалось. Они достигли мыса Скаген. Погода, конечно, была очень хорошая за всю дорогу, но как раз, когда они достигли опасного мыса Скаген, разразилась, само собой разумеется, буря; корабль разбился; родители, застраховавшие жизнь, потонули и этим обеспечили детям сумму в 1.500 фунтов стерлингов. Дети, конечно, очень радовались этому и в хорошем настроении духа прибыли в Гамбург, чтобы вступить во владение страховым капиталом, а равно и наследством. Вообразите же себе их разочарование, когда они узнали, что «Вашингтон» разбился четырнадцать дней тому назад на Доггер-Банке; всё их имущество незастрахованным пошло ко дну. Они поспешили в агентуру. Представьте себе их ужас, когда они услышали, что родители не заплатили последнюю премию, срок которой как раз выпал на день перед их смертью! Дети были очень опечалены этим и горько оплакивали своих родителей, так усердно работавших для них. Они с плачем упали друг другу в объятия и поклялись, что они вперед всегда будут страховать свое имущество и не пропускать взносов по страхованию жизни.
Все это нужно было приспособить к месту и шведским обстоятельствам, сделать удобочитаемым, превратить в новеллу. Он должен был вступить в литературу! Опять пробудился в нём чёрт высокомерия и шепнул, что он негодяй, если занимается такими вещами; но этот голос вскоре был заглушен другим, исходившим со стороны желудка и сопровождавшимся необычайно сосущими и колющими ощущениями. Он выпил стакан воды и выкурил еще трубку, но неприятное ощущение еще увеличилось; его мысли стали неясными он нашел, что комната его неуютна, время показалось ему долгим и однообразным; он почувствовал себя слабым и убитым; мысли его стали плоскими и вертелись только вокруг неприятных вещей, и вместе с тем ухудшилось и физическое самочувствие! Он спросил себя, не голоден ли он. Был час дня, а он не имел обыкновения есть до трех! Он тревожно подсчитал свою наличность. Тридцать три эрэ! Значит, без обеда! Это было в первый раз в его жизни. Этой заботы у него никогда еще не было! Но с тридцатью тремя эрэ можно и не голодать, он мог послать за хлебом и пивом. Нет, этого он не мог сделать, это неудобно. Пойти самому в молочную? Нет! Пойти и занять? Невозможно, не было никого, кто мог бы дать ему взаймы! При этой мысли голод взбунтовался, как выпущенный дикий зверь, рвал и кусал его и гонял его по комнате. Он курил одну трубку за другой, чтобы оглушить чудовище; но ничто не помогало. Барабанный бои раздался на дворе казармы, и он увидел, как гвардейцы вышли со своими медными котелками, чтобы получить обед. Все трубы, которые были видны ему, дымились; обеденный колокол прозвонил на Шипсгольме; что-то шипело на кухне соседа, полицейского, и запах жаркого проник к нему сквозь открытую дверь; он услышал звон посуды в соседней комнате и детей, читавших застольную молитву; насытившиеся каменщики внизу на улице спали послеобеденным сном на пустых мешках из-под провизии; он был теперь уверен, что в эту минуту весь город обедает; все, кроме него! И он рассердился на Бога. Тут светлая мысль пронеслась в его мозгу. Он взял Ульрику Элеонору и «Ангела-Хранителя», положил их в бумагу, написал на ней имя и адрес Смита и отдал посыльному свои тридцать пять эрэ. Потом он вздохнул облегченно, лег на диван и стал голодать с гордым сердцем.
VI
То же полуденное солнце, которое присутствовало при первой битве Арвида Фалька с голодом, весело светило в хижину колонии художников, где Селлен без пиджака стоял перед своим мольбертом и дописывал картину, которая завтра утром до десяти часов должна была быть на выставке уже совсем готовой, покрытой лаком и вставленной в раму. Олэ Монтанус сидел на лежанке и читал чудесную книгу, которую он занял на один день в обмен на свой галстук; время от времени он бросал взгляд на картину Селлена и высказывал свое одобрение, ибо он видел в Селлене большой талант. Лундель спокойно работал над своим «Снятием со креста»; он уже выставил три картины на выставке и, как многие другие, с большим нетерпением ждал их продажи.
— Хорошо, Селлен! — сказал Олэ. — Ты пишешь божественно!
— Можно мне взглянуть на твой шпинат? — спросил Лундель, который принципиально ничем не восхищался.
Мотив был простой и величественный. Песчаная отмель на побережье Галланда; осеннее настроение; лучи солнца сквозь разорванные облака; часть переднего плана состоит из песка с только что выброшенными мокрыми водорослями, освещенными солнцем; а сзади их море, в тени, с высокими волнами, с белыми гребнями; совсем в глубине горизонт опять в солнце и открывает вид в бесконечную даль. Картину оживляет только стая перелетных птиц.
Эта картина должна была быть понятной каждому неиспорченному уму, имевшему мужество свести таинственное и обогащающее знакомство с одиночеством и видевшему, как летучие пески губят многообещающие посевы. Это было написано с вдохновением и талантом; настроение создало колорит, а не наоборот.
— Ты должен поставить что-нибудь на переднем плане. Напиши корову, — учил Лундель.
— Ах, не говори глупостей, — ответил Селлен.
— Сделай, как я говорю, сумасшедший, а то не продашь. Посади фигуру, девушку; я помогу тебе, если не можешь; вот здесь…
— Без глупостей, пожалуйста! К чему юбки на ветру? Ты не можешь без юбок.
— Ну, делай, как хочешь, — отвечал Лундель, несколько огорченный насмешкой над одной из своих слабых сторон. А вместо серых чаек ты мог бы написать журавлей; а то сейчас совсем неизвестно, что это за птицы. Вообрази-ка себе красные ноги журавлей на темном облаке, какой контраст!
— Ах, этого ты не понимаешь!
Селлен был не силен в мотивировке, но свое дело ой понимал, и его здоровый инстинкт оберегал его от всех заблуждений.
— Ты не продашь, — начал опять Лундель, озабоченный хозяйственным благосостоянием своего товарища.
— Как-нибудь проживу! Продал ли я когда-нибудь что-нибудь? Стал ли я от того хуже? Разве ты думаешь, что я не понимаю, что продавал бы, если бы писал, как другие? Ужели же ты думаешь, что я не могу писать так же плохо, как они? Но я не хочу.
Но должен же ты позаботиться об уплате долгов! Ведь ты должен Лунду, хозяину «Печного Горшка», несколько сот крон.
— Ну, от этого он не обеднеет! Впрочем, он получил картину, стоящую вдвое больше!
— Ты самый себялюбивый человек, какого я знаю! Картина не стоила и двадцати крон!
— Я ценил ее в пятьсот, по обычной цене; но вкус так разнообразен. Я нахожу твое «Снятие со креста» никуда негодным, а ты считаешь его хорошим.
— Но ты испортил кредит в «Печном Горшке» и нам остальным; Лунд вчера отказал мне в нём, и я не знаю, где я сегодня буду обедать.
— Ну, так что ж? Проживешь и так! Я уже два года не обедал!
— Ах, ты намедни основательно ограбил господина Фалька, попавшего в твои когти.
— Да, правда! Славный малый! Впрочем, это талант. Много естественного в его стихах, я в последние вечера кое-что читал из них. Но боюсь, он слишком мягок, чтобы выдвинуться в этом свете; у него, у канальи, такие нежные чувства!
— Если он будет путаться с тобой, так это скоро пройдет. Но безбожным нахожу я, как ты испортил этого молодого Ренгьельма в самое короткое время. Ты вбил ему в голову, чтобы он шел на сцену.
— Рассказывал он это? Вот, дьявольский малый! Из него кое-что выйдет, если он останется жив, но это не так просто, когда приходится так мало есть! Убей меня Бог! Краски вышли! Нет ли у тебя немного белил? Помилуй меня, Боже, все тюбики выдавлены — ты должен дать мне краски, Лундель.
— У меня нет лишней, да если бы и была, я бы остерегся давать тебе!
— Не болтай глупостей! Ты знаешь, дело спешное.
— Серьезно, у меня нет твоих красок! Если бы ты экономил, их хватило бы…
— Это мы знаем! Так давай денег!
— Денег ты просишь как раз вовремя!
— Ну, тогда ты, Олэ! Ты должен что-нибудь заложить!
При слове «заложить» Олэ сделал веселое лицо, потому что знал, что тогда будет еда.
Селлен стал искать по комнате.