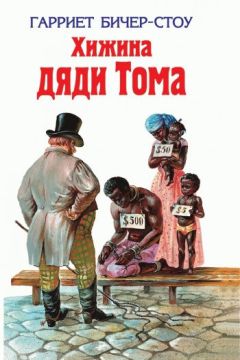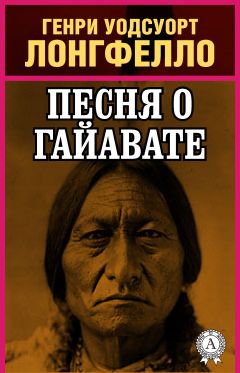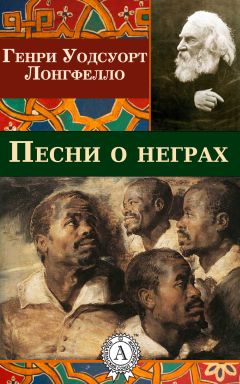Михаил Ландбург - Посланники
С тех пор, как во время школьного урока по истории древнего Рима мне пришла в голову мысль серьёзно заняться изучением культуры древних, я по вечерам ходил в городскую библиотеку, где для интересующейся публики профессора университета читали лекции по истории; дома же я самостоятельно вгрызался в учебник латыни. Максимы древних вызывали во мне трепет своей глубиной и значительностью, и я повёл, как бы, двойную жизнь: в школе говорил на языке что надо, а дома, оставаясь наедине с собою, зазывал к себе в гости легендарных героев и беседовал с ними на их языке …
- Этот язык просто въелся в меня, - сказал я отцу, и тогда он, пристально посмотрев на меня, насмешливо проговорил:
- А знаешь ли ты, что в жизни самое главное?
Я не знал.
- Тона и полутона…- подсказал отец. - Самое главное – суметь уловить границу между тонами и полутонами. Не сумеешь сам – они за тебя выберут...
- Что? - спросил я. - Что они за меня выберут?
И тогда отец привёл рассказ о Создателе, который, держа в руке неиспользованный кусок глины, спросил только что изготовленного Им человека, не хочет ли тот, чтобы ему слепили что-то ещё. Человек попросил слепить ему счастье. В ответ Бог вложил оставшийся кусок глины в ладонь человека и смущенный, ничего не сказав, ушёл.
Я задумался: "Что стоило Создателю слепить для человека счастье?"
Через два дня в доме появился небольшой сборник Овидия "Amores".
- Тебе! - сказал мне отец.
***
В усвоении латыни я преуспел настолько, что, спустя год, выходя к школьной доске, мог изъясняться на языке древних римлян. В классе меня воспринимали как инопланетянина или как свободный электрон, однако нашлось существо, которое меня оценило вполне. Девочку звали Дина, и в один из дней она мне разрешила потрогать её грудь. Правда, поверх кофточки, но всё же…Слушая меня, ученики бились в истерике от смеха, а учителя не знали с чем меня кушать. Особенно сильно морщил лицо учитель географии. От него пахло чесноком, и, кажется, мой язык он плохо понимал. В один из дней я вспомнил совет отца: "Если тебя не понимают сразу, то просто повтори уже сказанное, повысив голос". Сказанное мною я тут же повторял, не забывая, что должен повысить голос. Ученики хохотали так, что казалось, будто они вот-вот повалятся на пол замертво.
Однажды учитель отвёл меня в кабинет директора школы, который долго кружил вокруг меня, и я был горд тем, что удостоился столь высокой чести, но вдруг директор остановился и, наставив на меня два потухших глаза, попросил, чтобы я впредь прекратил умничать. Я пролепетал:
- Mea culpa*
Директор отошёл в дальний угол и озабоченным голосом проговорил:
*(лат) Моя вина.
- Ты представляешь, что из тебя получится?
Я пожал плечами.
- Подумай! - разрешил директор.
Я подумал о Шопене, которому стоило родиться, как мир уже знал, что он вскоре получит в дар удивительную музыку, а когда родился Сервантес, многие сразу же предположили, что их дом непременно посетит Дон Кихот; а когда…"
- Ну, как? - немного погодя, поинтересовался директор.
Я снова пожал плечами.
Меня вернули в класс.
- Готов измениться? - спросил учитель.
Я посмотрел по сторонам.
- Ну? - нервничал учитель.
- Разве готовые брюки заново перешивают? - сказал я.
Лицо учителя потемнело.
Ученики продолжали биться в истерике от смеха, а учителя продолжали мною давиться.
Снова кабинет директора. На этот раз директор был краток.
- Молчать! - крикнул он.
В класс я вернулся не совсем в себе. Учеников охватила тоска, а учителя, победно улыбались. Учитель географии, сладко причмокивая губами, попросил меня не отказать ему в удовольствии и озвучить на латыни "нет предела человеческой глупости". Я охотно согласился и, также сладко причмокивая губами, произнёс: "Нон лимитус хоминус придурус".
***
Видимо, помня слова Гераклита о том, что вступить в одно и то же помещение дважды невозможно, отец отвёл меня в другую школу, после чего я повесил над моим письменным столом плакат со словами Марка Аврелия: "Неизбежно будет несчастен тот, кто не следует за движением своей собственной души"
***
В тот день из комнаты отца-дедушки послышались аккорды фортепианного концерта Грига.
Я приоткрыл дверь.
Отец сидел на полу, обхватив руками радиоприёмник.
"Папа!" - я вырвал шнур из розетки.
Грудь отца, будто при натруженной работе насоса, выбрасывала из себя пугающие присвисты.
"Папа!" - я увидел неуклюже раскрытый рот.
" Папа!" - я увидел окостеневший рот.
"Папа!" - я увидел серые щёки.
"Папа!" - я увидел остановившиеся глаза.
"Папа!" - кажется, я терял дыхание.
"Папа!" - у меня в голове что-то шелушилось, склеивалось, расклеивалось. Больно колола мысль: "Кажется, у отца не сошлось… Кажется, он жил, будто с оглядкой. Кажется, в нём застрял избыток прошлого…"
"Прорыв аневризмы одной из аорты мозга", - сказали врачи.
…Потом в нашей квартире толкались какие-то люди. И на кухне толкались, и в коридоре. Семь дней приходили люди со скорбными лицами. Кто-то стоял и молчал, кто-то сидел и молчал, кто-то говорил заботливые слова. Мужчина с тоненькой шеей призывал принять Господа, не смотря на доставленные людям испытания. Я удивился тому, как на столь тонюсенькой шее может держаться голова. Какая-то женщина с большими чёрными бусами сказала: "Мир – двулик: один – тот, который мы наблюдаем; другой – который пытаемся себе представить". Потом к нам заходили редко. Смятение длилось неделями. Днём я ходил подавленный, подолгу простаивал у окна гостиной и смотрел на небо. Солнце казалось пустым и бесцветным. Однажды, постояв на пороге той комнаты, меня вдруг осенило: образ жилья создают не стены, не потолки, а те глаза, та улыбка, те руки, та печаль – они никуда не деваются. Всё, что было его, сохранило свою значимость и ценность навсегда.
По ночам я видел странные сны. Например –
выброшенная волной на берег задыхающаяся рыбка просилась ко мне на руки. "Поговорим", - сказала она. Я нагнулся, чтобы поднять её, но вдруг с неба спустились два парашютиста, и рыбку из моих рук забрали…
Я чувствовал себя сбитым с ног.
Меня поднимала мама.
Два раза в месяц мы ходили на кладбище.
Я знал: тела людей опускают в землю.
Я слышал: души людей отлетают в небо.
"А людской разум? - хотелось мне знать. - Любопытно, куда девается разум?"
Проходя мимо немых надгробий, я думал: "Мертвые не ропщут". Надпись на одной из плит заставила меня содрогнуться. "В моей смерти прошу винить мою жизнь", - прочёл я.
От могил исходил покой, но меня не покидало подозрение, что там, куда мёртвые забирают с собой слишком большой мешок невысказанных слов, быть спокойно не может.
"Вот здесь…", - подходя к могиле моей настоящей мамы, говорила мама-бабушка и вдруг замолкала. Её ладонь ложилась на чёрный мрамор. Потом мы шли в дальний угол кладбища, и, стоя над могилой моего настоящего отца, я себя спрашивал: "Почему в это мир люди приходят с оглушительным крикоплачем, а из него уходят с тихой готовностью и смирением?" И себе же отвечал: "Видимо, жизнь не такой уж ценный презент, или же люди уходят туда, чтобы использовать возможность сохранить в себе некую наполненную исключительно важного смысла тайну".
За кладбищенской оградой шумела улица.
***
Я бродил по комнате.
"Полночь. Время тихое.
Месяца усы.
Над окошком тикают
Старые часы".*
Загадки…
*Феликс Куперман "На уровне моря".
Вопросы…
"Как прожить без этих "отчего так?" и "почему не так?"
Я заставлял себя думать. Добросовестно и упрямо.
…В один из дней я возомнил себя писателем, задумавшим сочинить пьесу, где действующие персонажи будут не люди, а –
прихоть,
лукавство,
счастье,
безумие,
тайный сговор,
надежда,
подлость,
отчаянье,
очищение.
В конце концов, я понял, что писатель из меня не получится – видимо, размер головы не тот...