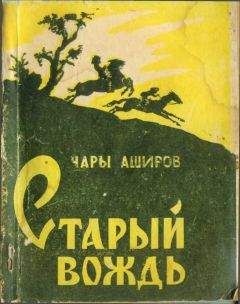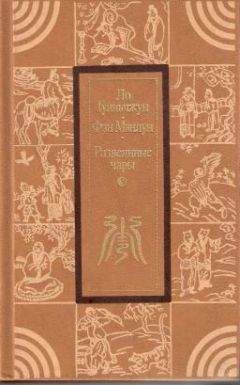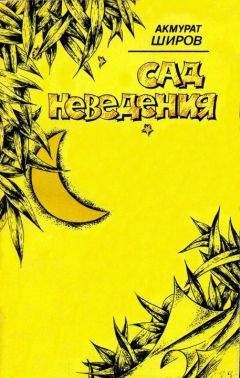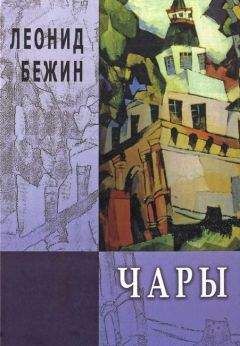Казимеж Брандыс - Граждане
— Сын мой!.. — начал ксендз самым елейным тоном.
— Ведь вам наплевать на всякие «методы». Вы лжете. Вы сегодня же охотно приказали бы сжечь на костре людей, которые утверждают, что земля вращается вокруг солнца. Ведь верно?
— Вы с ума сошли! — прошептал ксендз. — По какому праву…
— Погодите, — перебил его Моравецкий. — Скажите мне, сколько раз вы давали отпущение грехов молодчикам, которые сознавались на исповеди, что застрелили коммуниста? Ну, сколько? Припомните. Методы… Методы! Да вы бы рады сжечь на костре весь земной шар, истребить на нем все живое.
— Не гневите бога! — сказал ксендз вставая. — Молитесь! Бог видит ваше горе…
Моравецкий рассмеялся. Ксендз торопливо направился к дверям.
В учительскую вошел Шульмерский и спросил, что случилось. Лесняж шепнул ему несколько слов и вышел, прошумев сутаной.
— Ксендз разнервничался, — сказал Шульмерский, когда они с Моравецким остались наедине. — Что это вам в голову взбрело?
Моравецкий, улыбаясь, продолжал проверять тетради. Шульмерский сел рядом.
— Не могу вас раскусить, паи Ежи. Странный вы человек! Ну, чего вы ерепенитесь? Что касается меня…
Он не договорил, так как в эту минуту в учительскую заглянул Тарас из одиннадцатого «А». Он делал Моравецкому таинственные знаки и улыбался как-то особенно светло и умильно. Моравецкий кивнул ему и собрал тетради, обрадовавшись, что нашелся предлог уйти от Шульмерского.
— Чего тебе, Тарас? — спросил он, когда они остановились у аквариума.
Тарас оглянулся с явным беспокойством: на подоконнике сидели Кузьнар, Збоинский и Свенцкий.
— Пожалуй, тут неудобно, — сказал он меланхолическим тоном.
— Почему же? — удивился Моравецкий. — Мы и здесь можем поговорить без помехи.
Тарас опять оглянулся, — видимо, его что-то смущало. Но сидевшие на подоконнике с необычайным интересом созерцали лампочку над аквариумом.
— Пан профессор, — начал Тарас заискивающе. — Я насчет выпускных экзаменов… Хочу вас предупредить, что на вопросы о крестьянстве я отвечать не смогу.
Тарас вздохнул и с выражением глубочайшей грусти заглянул в глаза учителю.
Моравецкий поправил очки.
— То есть как это понимать, Тарас?
Тарас слегка поклонился.
— Мне совесть не позволяет скрыть это от вас, пан профессор.
— Нет, это уже переходит всякие границы! — рассердился Моравецкий. — До экзаменов в твоем распоряжении еще целых полтора месяца, а ты приходишь с таким заявлением! Завтра же начинай готовиться — вот и все!
— Дело тут не во времени, пан профессор, — пояснил Тарас. — Просто крестьяне меня не интересуют. Они мне глубоко чужды.
Моравецкий высоко поднял брови и пытливо всмотрелся в Тараса.
— Слушай-ка, Тарас, — сказал он подозрительно, — за кого ты, собственно, меня принимаешь?
— Смотря с какой точки зрения, пан профессор, — ответил Тарас осторожно.
Три товарища на подоконнике попрежнему были поглощены созерцанием лампочки.
— Уж не считаешь ли ты меня дураком? — поинтересовался Моравецкий.
— Это совершенно исключается, — подумав минуту, возразил Тарас с полным убеждением.
— И ты полагаешь, что твое заявление совместимо со званием зетемповца?
— Простите, как вы сказали? — Тарас, повидимому, не расслышал.
— Я, кажется, ясно сказал. — Моравецкий толстым пальцем дотронулся до пуговицы на куртке Тараса. — Ни на какие потачки с моей стороны ты не рассчитывай. Времени впереди достаточно. Можешь засесть за книги вместо того, чтобы торчать постоянно на углу Смольной. Думаешь, я этого не знаю?..
— Это уже дело прошлое! — вздохнул Тарас, моргая ресницами.
— Факт, пан профессор! — подтвердил Збоинский с подоконника. — Это уже неактуально. Он теперь выстаивает перед музыкальной школой на Медовой.
Тарас покраснел и с невинным видом произвел некий маневр с целью ретироваться, но было уже поздно. Тройка товарищей соскочила с подоконника, и за спиной Тараса раздался голос Свенцкого:
— Пан профессор, вы можете быть совершенно спокойны. Тарас будет знать на зубок все по крестьянскому вопросу.
Моравецкий от неожиданности немного опешил.
— Да, да, вам следует за него приняться…
Мальчики дружно закивали головами.
— Уж мы им займемся, пан профессор!
— Он выучит все, не беспокойтесь!
— Ну, вот и отлично, — буркнул Моравецкий. На него ангельски безмятежно смотрели три пары глаз. Мальчики взяли Тараса под руки и с подчеркнутой приветливостью поклонились учителю.
— Тебе известно, что пан профессор умеет быть беспощадным, — громко сказал Свенцкий.
«Уж не трунят ли они надо мной?» — догадался вдруг Моравецкий.
Когда он входил в учительскую, до него долетели слова, сказанные шопотом:
— Вейс был прав. Баобаб приходит в норму.
В этот вечер Моравецкий решил не слушать радиопередачу. Но не прошло и нескольких минут после половины девятого, как его потянуло к приемнику. Он повернул рычажок и услышал знакомый уже голос прокурора:
«Повторяю вопрос: свидетель, как вы использовали сведения, получаемые от подсудимого Дзялынца? Объясните это суду.
В приемнике что-то затрещало, потом наступила тишина.
— Постарайтесь вспомнить, — сказал прокурор.
Через минуту Моравецкий услышал мужской, немного шепелявый голос:
— Докладываю Высокому Суду. Информацию, получаемую от подсудимого Дзялынца, я передавал воеводским органам…
— Каким именно органам?
— Высокий Суд… Это входило в мои обязанности.
— Отвечайте на вопрос, свидетель. Вы заведовали общественно-политическим отделом Радомской управы и передавали доносы Дзялынца воеводским органам власти? Конкретнее — каким именно?
— Пан прокурор, я…
— Попрошу обращаться не ко мне, а к Высокому Суду…
Моравецкий впился глазами в приемник.
— Высокий Суд, — произнес голос свидетеля. — Я был государственный служащий. Все доставляемые мне сведения я обязан был передавать воеводскому охранному отделению.
— О чем идет речь? — недоумевал Моравецкий. Он вспомнил дом, где помещалась Радомская управа… лестницы и коридоры.
— Подсудимый Дзялынец! — голос прокурора прозвучал особенно громко и внятно. — Вы помните дело Янины Косцян, осужденной санационными властями за коммунистическую пропаганду?
Моравецкий сгорбился в кресле, как будто ему вдруг свалилась на плечи страшная тяжесть.
— Помню, — ответил Дзялынец.
— Вы были знакомы с Косцян до ее ареста?
— Да, она преподавала в той же гимназии, где и я.
— И вы донесли свидетелю Тетере о взглядах и деятельности Косцян?
— Свидетель Тетера много раз расспрашивал меня о ней.
— Значит, вы часто виделись с Тетерой, заведовавшим общественно-политическим отделом? Скажите, свидетель Тетера, как характеризовал тогда Дзялынец Янину Косцян?
— Как опасную бунтовщицу.
— И что же, эти сведения вы тоже передавали в охранное отделение?
— Высокий Суд, это входило в мои обязанности.
— Свидетель Тетера, не помните ли, к скольким годам заключения приговорили Косцян?
— Кажется, к десяти.
— А сколько ей было лет, когда ее арестовали?
— Кажется, двадцать с чем-то… Но через четыре года она умерла в тюрьме, — прибавил свидетель таким тоном, словно это могло смягчить впечатление от сказанного.
— Выдача передовых людей фашистским властям — вот начало карьеры профессора Дзялынца, — сказал диктор. — Последовательный путь доносчика и предателя.
Сквозь шум, похожий на громкий ропот толпы, снова пробился резкий голос обвинителя:
— Подсудимый Дзялынец, скажите… — На мгновение голос пропал, словно унесенный ветром, потом зазвучал ближе и громче:
— Подсудимый Дзялынец, скажите, из каких побуждений вы действовали? Ваши доносы на друзей и товарищей по работе оплачивались?
— Высокий Суд, — ответил далекий и глухой голос Дзялынца. — Все, что я делал, я делал бескорыстно, по убеждению. Я считал это долгом совести.
— Совести! — повторил прокурор. — А сколько еще своих товарищей из радомской гимназии вы выдали санационным властям из таких «бескорыстных» побуждений?
— Кроме Косцян, — спокойно ответил Дзялынец, — в радомской гимназии не было людей, чьи левые убеждения могли бы быть опасны. Таких я не встречал даже среди самых близких друзей Косцян. Все это были люди безидейные при всей их революционной фразеологии. Поэтому я не считал нужным сообщать о них кому бы то ни было.
Услышав эти слова, Моравецкий наклонился вперед и схватился руками за радиоприемник, словно хотел заставить его замолчать.
Глава седьмая
Варшава проснулась в обычное время, раньше, чем первые колонны демонстрантов со знаменами двинулись на места сбора. День вставал теплый, небо с рассвета было безоблачно. Город уже облекся в праздничный наряд, его украшали несколько дней, и прошлой ночью рабочие протягивали красные полотнища поперек улиц, сооружали на площадях белые эстрады и арки, укрепляли флаги на фризах новых зданий. Еще не взошло солнце, а уже над самыми высокими зданиями в центре города красовались портреты вождей рабочего класса и борцов за мир.