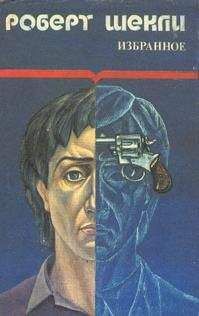Явдат Ильясов - Пятнистая смерть
— Вай, до чего красивый!
Спаргапа задрал голову повыше, напустил на себя равнодушный вид. Он чувствовал — девушки глядят ему вслед. И вытянулся, как тетива, стараясь показаться высоким и необыкновенно стройным, отчего походка сделалась у него судорожной, дергающейся, будто беднягу за волосы встряхивали. Эх, юность…
«Мать укоряет меня справедливо, — подумал Спаргапа. — И впрямь, почему я прицепился к этой Райаде пустоголовой? Вон сколько их… Найдется для молодого кречета сизокрылая соколиха», — горделиво закончил он свою мысль.
На глиняной ограде затрещала сорока.
И вдруг — знакомый медный голос:
— Куда спешишь, храбрец?
По телу волной хлынул жар.
Оторопевший и одуревший, с отнявшимся языком, стоял Спаргапа перед благоухающей, как ветвь базилика, Райадой.
Она искательно заглядывала снизу в бараньи глаза юнца и хитро смеялась. Четко выступали на смуглой коже шеи, отсвечиваясь на ней беловатыми бликами, крупные жемчужные ожерелья. Сверкали на запястьях браслеты червонного золота. Угольками горели на шапочке рубины. Но все это безнадежно меркло в блеске чистейших в Туране зубов, в лучах солнечного взгляда.
Смутно, как очертание дозорной башни в удушающем тумане, в замутившейся памяти Спаргапы возникло материнское предостережение.
«Мышь…».
Он протянул трясущуюся руку, чтоб отстранить Райаду, и прохрипел, с усилием разлепив спекшиеся губы:
— Уйди. Некогда мне…
Райада испуганно округлила глаза.
— Как! — воскликнула она растерянно, — ты уже не хочешь на мне жениться?
У нее жалко задрожали губы и подбородок. Точно как у ребенка. Сердце юного дривика остро заныло — так у бывалого воина ноет к непогоде старая рана.
— Жениться! Ты ведь не за меня — за вождя хотела бы…
— А ты разве не хочешь вождем стать? — изумилась Райада. Она тесно прижалась к нему и прошептала с зовущей улыбкой: — Вечером будь у наших шатров. Хорошо? Я выйду.
Кожа Райады пахла красным перцем и мятой. Она страдальчески прищурилась, кивнула с бесстыдной откровенностью, больно ущипнула Спаргапу за тыльную сторону ладони и убежала.
Стая чем-то обеспокоенных псов кинулась за нею.
У Спаргапы потемнело в глазах, закружилась голова. Бледный, с подгибающимися ногами, словно хворый, еле выбрался он из городища и поплелся по тропинке вдоль озера к стану Хугавы.
За палатками слышался чей-то дикий рев.
Оказалось — Хугава, ловко орудуя старым, сточенным наполовину мечом, брил голову одному из братишек.
Рядом корчилась от смеха высокая, статная, синеглазая и русоволосая женщина — жена Хугавы:
— Ты правил свой серп на камне? Провел им хоть раз по точилу? Ой-ой! Такой бритвой верблюдов глушить. Может, огня принести да лучше опалить мальчишку, чем мучить, кромсать ему голову затупленной бронзой.
Меч резал волосы отлично. А мальчишка — он плакал просто от страха и с непривычки — у саков не принято брить голову.
Хугава добродушно посмеивался:
— Не мешай. Рассержусь — и у тебя косы уберу. Только и возишься с ними. Сколько кислого молока переводишь на мытье! Давай — отхвачу? Пригодятся на путы для коней.
— Э, нет! Самой нужны.
— Для чего?
— Тебя на привязи держать.
Разговор был пустой, но веселый, и юнец подумал с завистью: «Хорошо им вместе, должно быть. Она любит Хугаву — по глазам небесным вижу, по улыбке. Ах-вах, когда же и мы так… с Райадой? Горе моей голове».
— Я сейчас, — кивнул Спаргапе табунщик. — Нечисть завелась у малыша. Никак не одолеть. Приходится снимать волосы, пусть это и грех…
В семействе Хугавы было немного людей. Огня, как говорят в пустыне хватало на всех. И в отличие от крупных семейств, где каждая малая семья питается из отдельного котла, здесь дружно садились за одну скатерть и дед с бабкой, и отец с матерью, дяди и тети, родные и двоюродные братья и сестры, невестки, племянники и племянницы, а также несколько пленных сугдов и тиграхауда, принятых в дом, по сакскому обычаю, на правах сыновей.
Спаргапе дали место рядом с Хугавой.
Пища у саков была простой, грубоватой, зато вкусной и сытной. Никаких сластей, солений и печений. Поели жирной мясной похлебки, заправленной диким чесноком и мятой. После еды отерли засаленные руки о волосы, брови, усы и бороду, у кого была борода. Выпили по чашке кобыльего молока.
Затем юнец и Хугава улеглись на берегу озера, в густой пахучей траве.
— Что скажешь? — улыбнулся Хугава. — Пришел пострелять?
Спаргапа вцепился в тонкий, но крепкий стебель солодки и попытался его сорвать, но растение не поддавалось.
— Эх, друг Хугава, эх! — Он с натугой одолел тугой, упругий стебель, хлестнул им себя по шее. — Не до стрельбы сейчас. Скажи, Хугава… эх, туман у меня в голове! — скажи, друг: смог бы… смог бы ты быть главным вождем хаумаварка?
— Я?! Что ты, парень! Какой я вождь? Нужно много чего повидать на свете, чтоб десятками тысяч людей верховодить. Такой же светлой головой владеть, какая у отца твоего была. Вождь — это как отец для детей: самый старший, самый умный, самый сильный человек в семье.
— Самый старший? Нет, Хугава. Ты — молодой, а все в твоем семействе слушаются тебя. И старики, и дети. Выходит, не в летах дело, а в голове.
— Ну, это семейство, а то — союз племен, — сказал Хугава нехотя.
— Теперь скажи, Хугава… — Спаргапа отвел глаза в сторону, сунул ободранный стебель в рот, — скажи, друг: подошел бы… сумел бы я быть предводителем саков? Да, да! Чего ты опешил? — оскорбился Спаргапа. Разве я какой-нибудь ягненок паршивый, что меня нельзя выбрать главным вождем? Я — сын великого старейшины!
— Не рановато ли… о таких вещах? — пробормотал пораженный Хугава.
Спаргапа рывком поднялся, поднялся и обескураженный табунщик.
— Хочу быть вождем — и все! — Спаргапа по-детски упрямо топнул ногой, обутой в мягкий сапог с коротким голенищем.
Стрелок бросил на юношу косой взгляд изумления. Спаргапа уловил этот взгляд, круто покраснел от убийственного стыда, крепко рассердился на Хугаву, но еще крепче — на себя.
— Не хочу… но так нужно, — поправился Спаргапа, избегая проницательных глаз сородича. — Если ты — друг, за меня кричи сегодня на выборах. Ладно?
Хугава не ответил.
Спаргапа резко повернулся, приблизил к стрелку лицо, бледное, словно тростниковый корень. Губы юного дривика кривились, глаза, на миг ослепшие, скосились к переносью. Весь он так и корчился от ударившей в голову ярости.
Как говорится в легенде: «Буйные жилы его передернулись. Из глаз, как от огнива, посыпались искры. Длинные кудри взвились кверху, точно хвост жеребенка, стоит, рыча, черный верзила, снизу прямой, сверху сутулый…»
— Кричи за меня на совете! — взвизгнул Спаргапа. — Или… я не знаю, что сделаю… и тебя зарежу, и себе живот распорю!
И он с зубовным скрежетом перекусил стебель солодки.
Он и медный прут перекусил бы сейчас.
Жалкий и потерянный, неверными шагами потащился Спаргапа к городищу, а Хугава стоял у озера и смотрел ему в спину, вскинув изогнутые брови на лоб, почти до волос.
— Что с ним такое? — соображал с горечью «Хорошими коровами обладающий». — Был не совсем умен — совсем глупым сделался. Кто-то крутит беднягу. Это Райада…
Негодование плотно сомкнуло крепкие челюсти пастуха.
— Ладно, друг, — проворчал он сурово. — Я покричу на совете… Если жеребца не объездить смолоду, потом к нему — не подступись. Не согнул деревцо, когда прутиком было — не согнешь, когда в кол превратится. Хугава вспомнил обритого братишку и усмехнулся. — У тебя тоже нечисть в голове завелась. Что ж? Останешься без волос.
Сказание четвертое
Гром и молния
Среди гостей — купцы из дружественной Сугды [8].
С ними — странный, одетый так же, как и они, в халат с закругленными полами и узкие штаны, но по ухваткам и выговору — чужой человек, нездешний: торговец из далекой Эллады.
У саков он — впервые. Грек следит за туземцами сосредоточенно, с тем же любопытством, с которым бывало, взирал на родине на сборища растерзанных вакханок.
Саки — люди большей частью рослые, смуглые и длинноголовые, с миндалевидными глазами, сияющими чернотой из-под тяжело нависших век, с толстыми округлыми носами и грузными подбородками. Они похожи на мадов, на мужей персидских.
Но немало среди них и белокожих, золотистоволосых, с прямыми или крючковатыми носами и сухими точеными лицами. Солнце Турана не вытеснило еще из синих и серых глаз северной прохлады.
Тут и там промелькнет в толпе густо-коричневый лик, носящий признак близкого родства с чернокожим курчавым югом.
Сверкнут иногда с плоского желтого лица два острых, косо разрезанных глаза — через них глядит на западного гостя иной восток, не сакский, неведомый, отгороженный стеною неприступных гор.