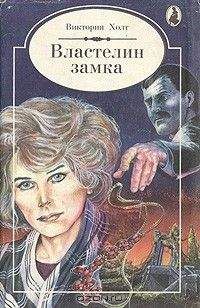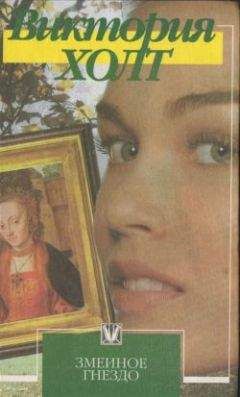Виктория Холт - Властелин замка
Тогда я не поняла и сказала, что постараюсь быть добродетельной женщиной, а он пробормотал что-то насчет плотских страстей. А потом перед венчанием мы вместе молились, и я не знала ничего о том, что меня ожидает, кроме того, что это стыдно, и что мой отец опечален, что не может уберечь меня от позора. И вот такой я пришла к своему мужу…
Но теперь все по-другому. Наконец я поняла, что папа не прав. Ему не следовало жениться. Он хотел стать монахом. Он уже собирался в монастырь, но потом понял, что хочет жениться, и женился на моей матери. Но он возненавидел себя за свою слабость, и монашеская ряса стала его величайшим сокровищем. Он ошибается. Теперь я это знаю. Я могла бы стать счастливой. Я могла бы узнать, как заставить Лотера любить меня, если бы папа не запугал меня, если бы он не внушил мне, что супружеская постель — нечто постыдное. Я не пытаюсь обвинить его. Все эти годы, когда мой муж избегал меня, когда он проводил ночи с другими женщинами — их могло и не быть. Я начинаю понимать, что отвратила его от себя своим трепетом перед грехом. Завтра я поеду в Каррфур и скажу отцу, что у меня будет ребенок. Я скажу: «Папа, я не стыжусь… я горжусь собой. Все теперь будет по-другому».
Я не поехала в Каррфур, как обещала себе: зуб мудрости опять разболелся. Нуну сказала: «Иногда, когда женщина беременна, у нее выпадают зубы». Я покраснела, и она поняла. Как я могла удержать что-то в секрете от Нуну? Я сказала: «Не говори никому, Нуну. Я еще не сказала ему. Он должен узнать первым, ведь правда?! И еще я хочу сказать отцу». Нуну поняла. Она так хорошо знает меня. Она знает, как папа заставляет меня молиться, когда я приезжаю туда. Она знает, что ему хотелось бы видеть меня в монастыре. Она знает, что он думает о супружестве. Она втерла мне в десну дольку чеснока и сказала, что это должно помочь; я присела на скамеечку, спиной к ней, как часто сидела в детстве. Мы разговаривали с Нуну. Я рассказала ей о том, что чувствовала. Я сказала: «Папа ошибается, Нуну. Из-за него я относилась к замужеству как к чему-то позорному. Это из-за того, что… потому что это я сделала наш брак таким невыносимым, мой муж пошел к другим». «Ты не виновата, — сказала она. — Ты не нарушила ни одну заповедь». «Из-за папы я чувствую себя нечистой, — сказала я. — С самого начала. Поэтому мой муж отвернулся от меня. Я не могла объяснить ему. Он подумал, что я холодная, а ты ведь знаешь, Нуну, он-то не холодный. Ему нужна ласковая, нежная, умная женщина. С ним обращались несправедливо». Нуну не поняла. Она сказала, что я ничего дурного не сделала. Я обвинила ее в том, что она заодно с отцом. И сказала: «Мне кажется, тебе тоже больше хотелось бы видеть меня в монастыре, а не замужем…» Она этого не отрицала. Я сказала: «Ты тоже думаешь, что брак — нечто стыдное». И этого она тоже не отрицала. Зубная боль не прошла, поэтому она дала мне несколько капель настойки опия в стакане воды и заставила лечь на кушетку. Бутылочку она закрыла в шкафу и села рядом со мной. «Ты сейчас уснешь, — сказала она. — Крепко уснешь». Так и вышло. Это ужасно. Я не забуду этого до самой смерти. Все время вспоминаю об этом. Может быть, если я напишу об этом, мои мысли не будут все время к этому возвращаться. Папа очень плох. Началось все так. Сегодня я поехала к нему. Я решила рассказать ему о будущем ребенке. Когда я приехала, он был в своей комнате, и я пошла прямо к нему. В это время он сидел за столом и читал Библию. Он посмотрел на меня, потом положил красную шелковую закладку на страницу и закрыл книгу. «Ну, дитя мое». — сказал он. Я подошла и поцеловала его. Кажется, он сразу заметил, что я изменилась, потому что вид у него был удивленный и несколько встревоженный. Он спросил о Женевьеве, привезла ли я ее с собой. Я сказала, что нет. Бедный ребенок, такие длинные молитвы — это для нее слишком. Она начинает упрямиться, и это беспокоит его больше всего. Я уверила его в том, что она хороший ребенок. Он сказал, что замечает в ней склонность к своенравию. За этим нужно следить. Может быть, потому что я вновь собираюсь стать матерью, но я ощутила в себе протест. Я не хотела, чтобы Женевьева, когда придет время, пришла к своему мужу такой же, какой пришла я. Я довольно резко ответила, что по моему мнению она нормальна, такая, каким должен быть ребенок. Не следует ждать от детей, что они будут вести себя, как ангелы. Он встал, вид его был ужасен. «Нормальна, — сказал он, — Почему ты так говоришь?» И я ответила: «Потому что для ребенка естественно быть немножко, как ты говоришь, своевольным время от времени. Женевьева такова. Я не стану наказывать ее за это». «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка, — ответил он. — Если она порочна, ее следует сечь». Я была в ужасе. «Ты ошибаешься, папа, — сказала я. — Я с тобой не согласна. Женевьеву никто не будет сечь. Никого из моих детей». Он с удивлением посмотрел на меня, и я выпалила: «Да, папа, у меня будет ребенок. На этот раз, надеюсь, мальчик. Я буду молиться, чтобы это был мальчик… и ты должен молиться тоже». Рот его скривился. Он произнес: «У тебя будет ребенок…» А я весело ответила: «Да, папа. И я счастлива-счастлива… счастлива…» «У тебя истерика», — сказал он. «Да, истерика. Я хочу танцевать от радости». Тогда он схватился за стол и стал сползать на пол. Я подхватила его, не дав упасть. Я не могла понять, что с ним произошло. Я поняла только, что ему очень плохо. Я позвала Лабиссов и Мориса. Они пришли и перенесли его на кровать. Мне самой стало дурно. Послали за моим мужем, а потом я узнала, что мой отец тяжело заболел. Я думала, что он умирает.
Это было два дня назад. Он звал меня. Он целый день зовет меня. Он хочет, чтобы я сидела у его постели. Доктор считает, что ему это на пользу. Я все еще в Каррфуре. Мой муж тоже здесь. Я сказала ему: «Это случилось с отцом, когда я сообщила, что у меня будет ребенок. Это было для него ударом». Мой муж утешил меня: «Он уже давно болен. Это был удар, и он мог произойти в любую минуту». «Но, — сказала я, — он не хотел, чтобы у меня были дети. Он считает это греховным». А муж сказал, что я не должна волноваться. Это повредит ребенку. Он доволен. Я знаю, что он доволен, потому что больше всего на свете он хочет сына.
Сегодня я сидела с отцом. Мы были одни. Он открыл глаза и увидел меня. И сказал: «Онорина… это ты, Онорина?» А я сказала: «Нет, это Франсуаза». Но он все повторял имя Онорина, и я поняла, что он принимает меня за мою мать. Я сидела у постели и думала о том времени, когда она была жива. Я видела ее не каждый день. Иногда ее одевали в платье с лентами и кружевами и мадам Лабисс приводила ее в гостиную. Она сидела в своем кресле, разговаривала мало, и я всегда думала, какая она странная. Но она была очень красива. Даже в детстве я понимала это. Она была похожа на куклу, что была у меня когда-то; лицо ее было гладким и розовым, без единой морщинки. У нее была тонкая талия, и при этом у нее были пышные, округлые формы, как на картинках, изображавших красивых женщин. Я сидела у постели и вспоминала ее и то, как однажды я вошла и застала ее смеющейся, она так странно смеялась, будто не могла остановиться, и мадам Лабисс увела ее в ее комнату, и была там довольно долго. Я знала, где ее комната, однажды я там была. Я пошла наверх, хотела побыть с ней. Она сидела в кресле, ноги ее были обуты в бархатные туфли. В комнате было тепло, а за окном, как я помню, шел снег. Высоко на стене висела лампа, а камин был прикрыт экраном, как у меня в детской. И еще я обратила внимание на окно, оно было маленькое, без занавесок, но с решеткой. Я подошла к ней и села на скамеечку у ее ног, а она мне ничего не сказала, но ей понравилось, что я рядом, она погладила мои волосы, а потом вдруг взъерошила их и вдруг начала смеяться тем странным смехом. Вошла мадам Лабисс и велела мне немедленно уходить. И потом рассказала Нуну, и меня отругали и запретили подниматься по той лестнице. Поэтому мать я видела только тогда, когда она приходила в гостиную.