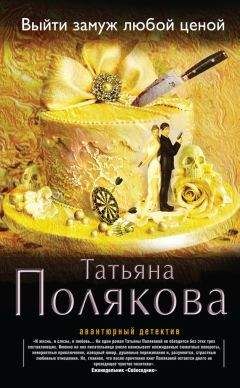Андрей Остальский - Синдром Л
«Боже, как бы соседи милицию не вызвали!» — подумала я. И быстро протянула ему тетрадку. Он схватил ее обеими руками, как главное сокровище жизни, вернулся за стол, спрятал тетрадь в ящик, запер его и ключ положил в карман.
Только тут я заметила, что по лицу его текут слезы. «Господи, только бы второго приступа не было!» — думала я.
— Должно же у человека быть сокровенное, личное… Нельзя же так. Это подло, в конце концов. Такая подлость — от родной дочери.
Я вернулась на свое место на кожаном диванчике налево от стола. Села. Думала напряженно, искала слова. Надо извиниться, конечно. Но это потом. А сначала надо сбить эту волну праведного негодования. И сделать это будет несложно.
— Отец, — сказала я. — Негодяйство дочери обсудим чуть позже. А сначала давай поговорим про трусость и жестокость отца.
— Жестокость? — удивился он. Или тоже в «эхо» научился играть?
— Да, жестокость. Дочь твоя серьезно больна. Согласен? У нее тяжелейшая психическая травма. Неизвестно пока, излечимая ли. По-простому говоря, она у тебя на грани безумия. А может, отчасти и за гранью…
— Да, но это не дает тебе права…
— Подожди, не перебивай, пожалуйста. Единственное, что твою дочь удерживает пока на этой последней грани — любовь отца.
— Ну уж…
— Да, да. Я же просила сделать одолжение, выслушать до конца. Итак, любовь отца — единственное, что спасает от окончательного безумия и каких-нибудь ужасных, непоправимых поступков. Но отец, столкнувшись с какими-то своими психологическими проблемами, решил нанести ей новую травму. Фактически добить ее. Уничтожить. Что может быть ужаснее для дочери, чем самоубийство отца? Причем не абы какого отца, а родного, очень близкого, самого дорогого человека. За которого она держится, как за соломинку, как за последнюю ниточку, удерживающую ее над пропастью. Если он сейчас исчезнет, да еще таким страшным способом, пустоту заполнить будет нечем… Не компенсировать никаким красивым любовным романом. С тем же успехом я тоже могу покончить с собой. А что? Давай, отец, тогда уж сделаем это на пару, а? Ты все меня уговаривал гнать суицидальные мысли… А теперь — давай учи, как вешаться… Папочка учит доченьку, как сломать себе шейные позвонки. Или задушить себя. Правда, огромный синий язык изо рта вываливается и недержание мочи обязательно происходит. Представляешь свою дочуру в таком виде? Симпатично, правда?
Он молчал. Смотрел на меня расширенными глазами. Потом пробормотал что-то неразборчивое. Кажется:
— Так нельзя, это запрещенный прием…
Наверно, воображал себе описанное зрелище.
— Я только поэтому и схватила твою тетрадь, что заподозрила что-то в этом роде… Только это и оправдывает в какой-то мере мой безобразный поступок.
— Именно что в какой-то мере, — пробормотал Фазер. Но это была уже победа. Крики про негодяйство и прочее кончились. Можно было вести переговоры по существу.
— У тебя теперь есть этот твой… Ганкин.
«Ах, тут еще и ревность! — подумала я. — Но это все-таки не главный мотив, я надеюсь».
— Во-первых, ты его прогнал. А во-вторых, и это гораздо важнее — еще раз повторю, — разве может кто-то заменить мне тебя? Никто! Исключено! И кошмарную новую травму, которую ты мне собрался нанести, никакой Ганкин, да и никто другой излечить не сможет.
Фазер впервые после эпизода с тетрадью взглянул мне в глаза.
— Но ты звучишь так уверенно, как будто из нас двоих сильнее ты. И взрослее.
«Может, отчасти так и есть», — я. Но вслух этого говорить не стала. А сказала другое, что тоже не было совсем уж ложью.
— Но ты-то, отец, в отличие от чужих людей, прекрасно знаешь, что это — напускное. Компенсация.
— Да, — откликнулся он. — И психиарт говорит, что до излечения еще далеко. Еще эта ложная память. Синдром Л.
— Ну вот, а ты хочешь меня с ним один на один оставить, с этим синдромом.
Отец посидел-посидел, потом встал, подошел, обнял неловко. Так мы и простояли минуты две, наверно, или даже три, просто молчали, и он легонько поглаживал меня по затылку. Я даже немного устала стоять, но боялась разомкнуть объятие. Наконец он оторвался от меня, отвернулся, наверно, чтобы я его слез не видела. Пошел в спальню, и оттуда донеслись трубные звуки — он громогласно сморкался.
«Все, — подумала я. — Самоубийство отменяется. На ближайшее время, по крайней мере».
Вернувшись, он опять полез в бар. «О, только не это! — поморщилась я, глядя, как он снова наполняет два фужера горькой жидкостью. — Будь он неладен, этот вермут… но придется смириться — что не сделаешь ради такого случая. И ради такого отца», — думала я.
— Что ты успела в тетрадке прочитать? — спросил он. И снова посмотрел, как он умеет, просвечивая насквозь. Под этим взглядом у меня очень плохо получается врать. С самого детства.
— Прочитать?
— Да, в тетради!
— В тетради?
Он повел плечом: дескать, не надо дурака валять. Теперь он терпеливо ждал ответа.
— Ну… я в основном жанр увидела данной эпистолы… Как я и думала, прощание с любимой дочерью перед насильственной смертью от собственных рук. Остальное я не очень-то разглядывала…
— Но все же кое-что разглядела, надо думать… я же знаю твою технику скорочтения.
И вот тут я дала слабину. Вместо того чтобы продолжать долго, занудно и кропотливо наводить тень на плетень, я сболтнула лишнее.
— Ты знаешь, пап, — сказала я. — Давай этот разговор отложим, а? На завтра хотя бы. А то поздно уже, все устали, ты с ног падаешь, да и я тоже…
— Нет, я хочу только понять, что ты успела там прочитать. Признавайся. Ты же меня знаешь, я все равно не отстану.
— Ну что-то такое… непонятное… про Сергуткина… про КГБ… агентов каких-то.
Отец встал. Подошел к окну. Сделал вид, что выглядывает там что-то. Чтобы понадежнее от меня отвернуться. Лица не видеть.
— Ты поняла? Самое… мерзкое ты поняла? Что меня завербовали? Что я, главный диссидент страны, ее несгибаемая совесть, вот уже почти три года как на подписке?
— Ну, может, и поняла… — сказала я. Надо было опять очень тщательно слова подбирать. Тут же очень деликатный момент наступил. Я даже зевнула — по-моему, довольно правдоподобно. Чтобы показать ему, что меня этот невероятный поворот в его биографии не особенно заинтересовал.
— Ну и поняла… Но я же вижу, какая жизнь пошла… все равно все вокруг или офицеры, или их агенты… Они, наверно, к стопроцентному охвату населения стремятся… Вот когда наступит рай!
— Меня не интересует остальное население. Мне за себя стыдно, — сказал Фазер. — А на остальных мне в данном случае наплевать… Но чего ты не знаешь, так это того, как это произошло. Я об этом написать не успел.