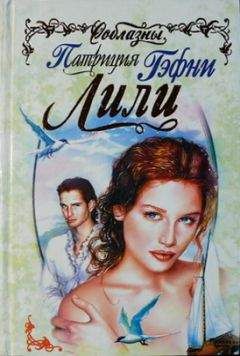Патриция Гэфни - Влюбленные мошенники
– Я назвала ее церковью Проклятой Грешницы. Весь приход, включая священника, состоял только из меня одной.
Рубен засмеялся.
– Мне здесь нравится. Но мне хотелось бы услышать только одно. Гусси. Скажи, что ты никогда не была здесь с Джо.
– Никогда. Только с тобой.
Они долго смотрели друг на друга, потом он потянулся к ней, но она выскользнула из его рук, села на зеленую траву, дернула его за брючину, приглашая опуститься рядом.
– Я еще не закончила свою историю. Философски вздохнув, Рубен опустился на землю рядом с ней.
– На чем я остановилась?
– Генри, – напомнил он, придвигаясь ближе и заправляя выбившийся локон ей за ухо. – Скоро ты догадалась, что у него есть другие занятия, помимо фермерства?
– Довольно скоро. Да он особенно и не старался их скрыть. А когда первоначальное потрясение улеглось, я пришла в восторг. Это же было нечто запретное, незаконное, греховное – я ухватилась за это обеими руками! Я стала его сообщницей, когда мне не было еще и восемнадцати.
– Что еще тебе приходилось делать, когда ты не разыгрывала из себя дочку Эндрю Карнеги?
Грейс закрыла глаза. Рубен воспользовался моментом и начал целовать ее затылок.
– Была у меня одна любимая игра. Мы изображали французских аристократов, отца и дочь, приехавших с визитом в эту страну. За две недели нам удалось убедить богатейшие семьи в Сакраменто сделать вложения в новую винодельческую технологию графа де Вильфора, разработанную им в своем замке на берегу Луары.
Рубен усмехнулся; его дыхание защекотало ей ухо. Грейс поежилась. И еще он медленно проводил рукой по ее позвоночнику – вверх-вниз, вверх-вниз.
– Труднее всего было удержаться от смеха, когда Генри пытался заговорить по-французски. Сама-то я французский знаю: отчим и мачеха дома всегда общались между собой по-французски, но Генри по-французски не говорит, он уехал из Квебека еще мальчишкой и все позабыл. Поэтому он просто придумывал слова: всякую тарабарщину, по звуку напоминавшую французскую речь. Это еще хуже, чем его немецкий. Но все ему поверили. К счастью, нам ни разу за все время не довелось столкнуться с настоящим французом.
Теперь Рубен занялся пуговицами на ее платье. То ли он их расстегивал, то ли просто перебирал пальцами – непонятно. Исходя из этого, Грейс сделала еще одно безошибочное наблюдение: история ее жизни уже не поглощала все его внимание.
– Но потом для вас настали трудные времена, – подсказал он, стремясь побыстрее добраться до конца.
– Потом настали трудные времена, – согласилась она. – Это случилось, когда Генри изгнали из Сан-Франциско.
– А кто его изгнал?
– Деловые люди, отцы города. Они страшно разозлились, когда выяснилось, что серебряных рудников, в которые они вложили деньги по его настоянию, не существует на свете. Но деньги были казенные, и они попали в такое неловкое положение, что решили не возбуждать дела, просто выставили его из города.
Воспоминания об этом моменте в ее биографии явно были ей неприятны.
– Каким же образом они его выставили?
– Просто пригрозили и все. Они похожи на Крокеров, только заседают в муниципалитете.
Пальцы Рубена справились тем временем с пуговицами и начали сложные маневры в нежной ложбинке у нее между грудей.
– Ну, словом, – продолжала Грейс, крепко зажмурившись, чтобы не потерять нить рассказа, – с тех пор дела покатились под гору. Развернуться в городе ему больше не давали, он начал растрачивать себя по мелочам. Я поняла, что дело совсем скверно, когда застала его за разработкой плана по выжиманию последних сбережений из пациентов туберкулезного санатория в Санта-Барбаре. Ну, ты понимаешь, где-то же должен быть предел! Вот тогда я и решила взять дело в Собственные руки и стала сестрой Марией-Августиной.
– О, ты была прелестной монашкой! Особенно когда сбросила облачение.
Одним плавным стремительным движением он опрокинул ее на спину, а сам оказался сверху. – Рубен, погоди…
Казалось, у него выросли лишние руки, и все они прилежно и проворно делали свое дело: освобождали ее от одежды.
– – Погоди, Рубен, – повторила она с тем же успехом, что и в первый раз. – Остановись! Нельзя этого делать.
– Это еще почему?
– Потому что сейчас твоя очередь.
Рубен пустил в ход зубы, чтобы распутать узел на шнуровке ее сорочки. Услыхав ее слова, он удивленно поднял голову. Шнурок свисал у него между зубов, как макаронина.
– Моя очередь?
– Я хочу услышать твою историю! Я хочу узнать правду, Рубен. Так будет по-честному.
Выпустив изо рта шнурок, он в изумлении откинулся назад.
– Одну минутку! Ты ставишь мне условия? Грейс призадумалась, потом решительно ответила:
– Да!
Его губы скривились в чувственной усмешке.
– Не люблю, когда мне ставят условия. Не успела она и слова сказать, как Рубен схватил ее за плечи и снова бережно опустил на траву. Пока он ее целовал, его колено скользнуло по ее ногам, прижимая их к земле и одновременно задирая юбки.
Что история его жизни может подождать, Грейс не возражала и ответным поцелуем дала ему понять, что больше не окажет сопротивления. Ее стиснутые в кулачки руки были зажаты между их телами. Он позволил ей высвободиться, и она провела ладонями по его широкой сильной спине. Вот ее руки скользнули за пояс брюк – ей хотелось добраться до обнаженной кожи. Удалось! Она пустила в ход ногти, и ответом ей стал глухой рычащий стон. Ослепительная голубизна неба, пробивающаяся сквозь ажурный зеленый полог, слепила ее. Она закрыла глаза, и ее тотчас же оглушил пронзительный хор цикад. Примятая их тяжестью трава пахла терпкой и сладкой свежестью… как тело Рубена. Они еще несколько раз поцеловались, а потом Грейс села и дрожащими пальцами принялась распутывать шнуровку. Распустив наконец шнурки, она успела снять сорочку через голову за полсекунды до того, как Рубен опять повалил ее на траву, не отрывая рта от ее левой груди.
Ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать, потому что дорожка из натянутых нервов протянулась от того места, к которому он прижимался губами, к самой сердцевине ее естества. Протянулась и вспыхнула, как подожженный запал. Грейс раскрыла колени и выгнулась ему навстречу, обхватив его ногами.
– Рубен! – воскликнула она. – Рубен… И вдруг сладкая боль прекратилась. С мучительным стоном, в котором бессильная ярость смешалась с горечью разочарования, все еще прижимаясь лицом к ее груди, он промычал:
– Ладно! Ладно! К черту все! Я тебе все расскажу. Теперь уже ей пришлось перейти на крик:
– Что? Что?
Свежий воздух, коснувшийся ее там, где только что было его пылающее тело, показался ей чуть ли не ледяным.