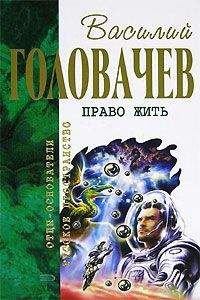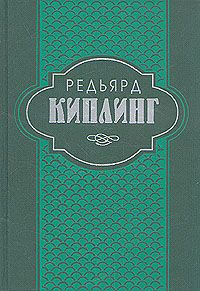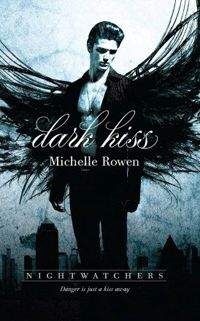Энн Пэтчетт - Заложники
– Господь тебя простит, – сказал священник.
Беатрис открыла глаза и быстро-быстро заморгала.
– Это значит, что они все от меня ушли?
– Для этого тебе надо молиться. Надо сокрушаться о том, что ты их совершила.
– Я могу сокрушаться. – Может быть, весь смысл заключен как раз в этом круге, в этом цикле согрешений и сокрушений. Каждую субботу, а может, и еще чаще, она станет приходить на исповедь, и священник будет просить за нее господа, и она станет совершенно чистой и безгрешной, чтобы потом отправиться на небо.
– А теперь я хочу, чтобы ты повторила некоторые молитвы.
– Но я не знаю всех слов.
Отец Аргуэдас кивнул:
– Мы можем произносить их вместе. Я тебя научу. Но при этом, Беатрис, я хочу, чтобы ты стала доброй, стала милосердной. Это должно доказать твое раскаяние. Я хочу, чтобы ты начала прямо сегодня.
Кармен находилась в гостиной, но там же находился и командир Гектор, и еще с полдюжины старших солдат. Четверо из них играли в карты, остальные наблюдали за игрой. Свои ножи они вонзили в стол, на котором играли, чем привели вице-президента в состояние, близкое к умопомешательству. Стол датировался началом ХIХ века, ручная испанская работа, столешница гравирована знаменитым мастером, который даже в страшном сне не мог себе представить, что его стол весь ощетинится ножами, как дикобраз. Гэн медленно прохаживался по комнате, даже не пытаясь привлечь к себе внимание Кармен. Ему оставалось только надеяться, что она его видит и захочет сама к нему подойти. Гэн остановился поговорить с Симоном Тибо, который, вытянувшись на диване, читал «Сто лет одиночества» по-испански.
– Кажется, у меня есть занятие на целую вечность, – сказал Тибо по-французски. – Это чтение займет у меня лет сто. Но, в конце концов, время у нас есть.
– Кто знал, что быть захваченным в заложники – это все равно что посещать университет, – усмехнулся Гэн.
Тибо улыбнулся и перевернул страницу. Слышала ли она их разговор? Видела ли она, как он выходит из гостиной? Гэн направился на кухню, которая, к его радости, оказалась пустой, и незаметно скользнул в посудную кладовку. Он решил ждать. Обычно, когда он приходил в эту комнату, Кармен уже находилась здесь. Он впервые оказался тут в одиночестве, и вид громоздящихся над его головой тарелок наполнил его сердце любовью к Кармен. Тарелок было столько, что два человека могли пользоваться ими целый год и ни разу не мыть посуду. Ему так редко удавалось выкроить минутку, чтобы побыть в одиночестве. Его все время о чем-то просили. Его голова была забита переживаниями и признаниями чужих людей. Но вот наконец вокруг него установилась тишина, и он тут же представил себе Кармен, сидящую рядом с ним и спрягающую глаголы, ее длинные тонкие ноги, скрещенные на полу. Она первая попросила его об одолжении, и вот теперь он собирается попросить ее о помощи. Они должны вместе помочь господину Осокаве и Роксане Косс. В нормальной жизни он бы заявил, что решение личных проблем его работодателя в его обязанности не входит, но разве их теперешнюю жизнь можно назвать нормальной? Теперь он воспринимал господина Осокаву безотносительно компании «Нансей» и Японии. Эти понятия остались далеко в прошлом, так что теперь ему трудно было себе даже вообразить, что они вообще существуют. Теперь он верил только в посудную кладовку, в соусницы и супницы, в штабеля десертных тарелок. Он верил в предстоящую ночь. Его поражало, что теперь он каждую минуту думает о Кармен, а не о господине Осокаве, который наверняка все еще играет в шахматы с Ишмаэлем. Но он не мог заставить себя раздвоиться и в результате почувствовал себя неуютно в этой комнате, ощутил идущий от пола холод, слабые признаки боли в спине. Он был здесь, всего лишь здесь – в этой незнакомой стране, и ждал девушку, которую учил и любил, ждал, чтобы помочь господину Осокаве, которого он тоже любил.
Без часов он не знал даже, сколько прошло времени. Даже представить себе не мог. Пять минут длились здесь больше часа. «Любовь – своенравная птица, – вспомнил он какие-то французские стихи. – Ее нельзя приручить». Он прочитал эти строки самому себе. Ему очень хотелось их спеть, но петь он не умел.
И тут появилась Кармен, взволнованная и раскрасневшаяся, как будто всю дорогу бежала, хотя на самом деле она старалась идти как можно медленнее. Она закрыла за собой дверь и опустилась на пол.
– Я подумала, что ты именно этого хотел, – прошептала она, прижимаясь к нему так, словно было очень холодно. – Я подумала, что ты меня ждешь.
Гэн взял ее за руки: такие маленькие ручки! Как он мог принимать ее за юношу?
– Мне надо тебя кое о чем попросить, – сказал он и вспомнил: «Любовь – своенравная птица, ее нельзя приручить». Он ее поцеловал.
Она ответила на его поцелуй и стала гладить его волосы, такие блестящие и густые, что она никак не могла от них оторваться.
– Я боялась уходить сразу. Я подумала, что надо немножко подождать.
Он снова ее поцеловал. В поцелуях есть какая-то непостижимая логика, непреодолимая сила притяжения, как у металла с магнитом, так что даже странно, как эти двое находили в себе силы, чтобы не целоваться каждую минуту. В некотором смысле мир – это океан поцелуев, из которого мы, люди, однажды нырнув, больше уже никогда не можем вынырнуть.
– Сегодня ко мне подошла Роксана Косс, – сказал Гэн между поцелуев. – Она попросила тебя сегодня ночью спать где-нибудь в другом месте, а утром не приносить ей завтрак.
Кармен отодвинулась от него, не снимая одной руки с его плеча. Роксана Косс не хочет, чтобы она приносила ей завтрак?
– Я сделала что-нибудь не так?
– Нет-нет, – ответил Гэн. – Она относится к тебе очень хорошо. Она мне сама об этом сказала. – Он снова обнял ее за плечи, и она прижалась к его плечу. Вот именно так должны чувствовать себя мужчина и женщина, когда остаются вместе. То, о чем Гэн даже не подозревал, когда занимался своими переводами. – Ты была совершенно права относительно ее чувств к господину Осокаве. Она хочет провести с ним ночь.
Кармен подняла голову:
– Но как же он попадет наверх?
– Роксана хочет, чтобы ты ей помогла.
Гэн жил одной-единственной жизнью, в которой он выступал в роли заложника, и все его друзья тоже выступали в роли заложников. Несмотря на то что он любил Кармен и вежливо обходился с некоторыми террористами, он оставался самим собой и вовсе не собирался вступать в террористическую организацию. Но для Кармен дела обстояли совершенно иначе. Она вела двойную жизнь. По утрам она, как все, делала отжимания и стояла на перекличках. Она ходила с винтовкой в наряды. За отворотом башмака она носила разделочный нож и знала, как с ним обращаться. Она подчинялась приказам. Она была, как ей объяснили, частью силы, которая стремится к изменениям. Но она также была девушкой, которая приходит по ночам в посудную кладовку, учится читать по-испански и уже может сказать несколько фраз по-английски: «Доброе утро», «Я себя чувствую хорошо, спасибо», «Как пройти в ресторан?» Иногда по утрам Роксана Косс разрешала ей забраться в ее постель, полежать на таких красивых простынях, на несколько минут закрыть глаза и представить себе, что все это принадлежит ей. Она представляла, что сама является заложницей и живет в мире с таким количеством свобод и привилегий, что бороться там уже не за что. Не имело значения, каким образом сосуществовали эти две жизни: они всегда оставались двумя разными частями, и при переходе от одного состояния в другое ей приходилось преодолевать некоторые препятствия. Если она скажет Гэну, что не может проводить господина Осокаву наверх, то наверняка разочарует всех: и самого Гэна, и господина Осокаву, и госпожу Косс, которые все были к ней так добры. А если она согласится, то нарушит присягу, данную своей организации, и рискует подвергнуться наказанию, которое даже трудно себе представить. Если бы Гэн все это понимал, он бы наверняка никогда не попросил ее о таком одолжении. Для него речь шла всего лишь еще об одной услуге, об оказании помощи друзьям. Как будто он просил одолжить ему книгу. Кармен закрыла глаза и притворилась, что очень устала. Она молилась святой Розе Лимской.