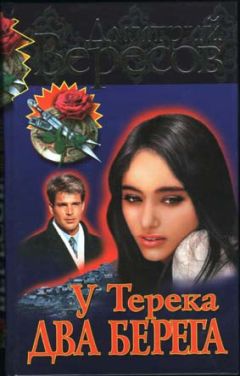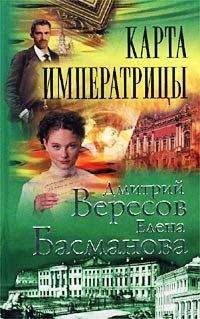Дмитрий Вересов - У Терека два берега…
Софи-Катрин поехала на вокзал, достала картину из ячейки камеры хранения, взяла такси и поехала на Чистые пруды.
Астрид открыла дверь и молча впустила гостью в квартиру.
Астрид была в черном. И в комнатах не светились вечным огнем привычные телеэкраны.
Они прошли в спальню. Астрид поставила картину на мольберт. Присели на краешек кровати. Выпили молча.
– Давай поедем к художнику, – первой нарушила молчание Астрид.
– Давай…
Модест Матвеевич был у себя в мастерской.
– Это муж Лики и мой друг, – отрекомендовала его Астрид.
– Я догадалась, – сказала Софи-Катрин без улыбки, протягивая руку Модесту Матвеевичу.
Догадаться было несложно – повсюду на полотнах была та девушка. Тоненькая девушка, что в спальне Астрид теперь вечно снимала свой белый ажурный чулок.
– Модест, – обратилась к художнику Астрид, – ты мог бы написать портрет по фотографии или даже лучше, по видеофильму?
– Портрет твоей подруги? – спросил художник.
– Портрет нашей подруги, – уточнила Астрид, – она погибла позавчера.
Модест молча подошел к бару. Достал бутылку виски и три стакана.
Софи-Катрин сидела согнувшись, подтянув коленки к самому подбородку. Астрид в прострации глядела куда-то в сторону.
– Оставьте кассеты и фото, – сказал Модест, – я погляжу…
Они тихонечко нализались в тот вечер, но каждый отправился спать в свою постель. И каждый, засыпая, думал о своем. О том, что не смог помочь, не смог защитить, спасти…
Модест думал о Лике.
Софи-Катрин думала об Айсет.
А Астрид думала о себе, вернее о том, что не смогла она спасти свою душу. Себя спасти.
Джон увидал репортаж из России, когда они с Мэгги собирали вещи, собираясь снова тронуться в путь.
– Мы показываем вам репортаж, подготовленный директором нашего московского отделения Астрид Грановски…
С экрана телевизора на Джона глядела Айсет.
– Московская редакция потеряла одного из своих лучших сотрудников, – говорил голос за кадром, – а лично я потеряла подругу, и как мне теперь кажется, лучшую подругу, потеря, которая в жизни уже никогда не восполнится…
С экрана на Джона глядела Айсет.
– Мы покажем сегодня ее фильм, тот ее фильм, который она не успела доснять, с кассетами которого ее так и нашли в расстрелянной бандитами автомашине на сороковом километре федеральной дороги А-140…
Джон молча присел на край кровати.
– Что? Опять в России кого-то убили? – крикнула из душа Мэгги.
– Помолчи, дура, – огызнулся Джон, доставая сигарету…
Из Шербура в Сен-Назер машину вела Мэгги. Джон сидел на заднем сиденье с ноутбуком на коленях и писал.
Он писал электронный мейл своему другу, который работал в офисе фирмы «Юнайтед Артистс».
«Боб, сделай мне одолжение, черт тебя дери, а то всегда по жизни одолжения тебе делал я. Мне нужно, чтоб это письмо ты передал сэру Реджи – Элтону Джону, и не отказывайся, я знаю, что в вашей конторе есть выходы на него непосредственно. И еще – заранее заклинаю тебя, не отдавай этого письма через секретарей, а то с тебя станется – скинешь с рук и думаешь, что помог старому приятелю. А письмо пропадет… Только лично Элтону, лично в руки! И не вздумай отлынивать, я тебя, старого педика, найду и мордой в писсуар засуну, ты меня знаешь!
А в остальном остаюсь по-прежнему твоим школьным другом, Джон…»
Далее шло письмо…
«Дорогой Сэр!
Я знаю Вашу занятость, но вместе с этим, зная и вашу сердечность и эмоциональную готовность к сочувствию, осмеливаюсь докучать Вам, дорогой Сэр, этим письмом, в котором сообщаю, что потерял друга. Вернее – подругу, хотя я и гей.
Вы, может, видели по телевизору репортаж из России, где показывали корреспондента московского отделения Си-би-эн чеченскую девушку Айсет Бароеву.
Так получилось, так тесен мир, что благодаря этой девушке мне довелось в позапрошлом месяце побывать на Вашем, сэр Реджи, концерте в Петербурге, в Екатерининском дворце. И эта девушка тоже сидела в первом ряду, и может, Вы даже помните ее.
Теперь она погибла.
Ее убили, когда она снимала фильм о Чечне.
Дорогой сэр. Я понимаю, что мои невоспитанность и самоуверенная наглость, когда я обращаюсь к Вам, столь велики, что достойны самого строгого порицания. Но, дорогой сэр…
Не могли бы Вы увековечить имя этой девушки в музыке?
С чувством вины от того, что оторвал Вас от дел этим письмом, искренне уважающий Вас Джон Берни Хоуэлл».
Письмо Айсет до Софи-Катрин не дошло. А девочка Эльза исчезла из дома Бароевых, будто ее и не было никогда.
Глава 19
Любил я – не в пример другим – слова
Избитые. И эту рифму: кровь – любовь,
Одну из самых трудных и старинных.
Любил я правду, скрытую в глубинах,
В которой боль находит вновь и вновь,
Как в сне забытом, друга. Опасенья
Внушает правда сердцу до поры,
Но, с нею сблизившись, ее совету
Оно готово следовать во всем.
Люблю тебя. Люблю и карту эту,
Оставленную под конец игры.
Умберто Саба– Хабар бар? Есть новости?
– Бар! Привезли откуда-то людей в вагонах. Живых и мертвых.
– Что за люди?
– Живут в горах, молятся Аллаху. Много людей.
– Ничего. Степь большая…
Из Саадаевых до казахских степей доехала только Мария. Из Мидоевых выжили Сулима и два ее сына. И Айшат, младшая сестра. Но как выжила? Вынесли ее совершенно бесчувственную и положили около железнодорожного полотна на черный, прокопченный снег. Но Айшат вдруг беспорядочно заговорила про горы, комсомол, белого коня. Тогда ее подняли и понесли дальше…
Кое-кому стены телячьего вагона показались хоть каким-то домом, каким-то убежищем, когда железнодорожный состав скрылся за бураном, махнув на прощанье снежным хвостом. Им велели идти, и они пошли от одного телеграфного столба к другому, неся детей и умирающих, поддерживая больных.
Через четыре столба степь уже окружила их, приняла их под свое снежное покровительство. Люди стали вглядываться вперед, но дальше нескольких темных столбов ничего не было видно из-за бурана. Через какое-то время люди стали прислоняться к очередному столбу, подходили следующие и прислонялись уже к первым. Так вокруг черных осевых лепился человеческий рой, затем редел, вытягивался, чтобы скучковаться у очередной опоры.
Кто бы им сказал, что сейчас, в самом начале весны, эти бескрайние снежные пространства сравнительно веселее, чем летом? Что пронзительный, ледяной и острый, как лезвие шашки, ветер – это еще что-то живое, заставляющее брести куда-то, искать чего-то лучшего, как-то суетиться? Кто бы им сказал, что летом здесь во все стороны света простирается сухая, желтая вечность и безнадежность?