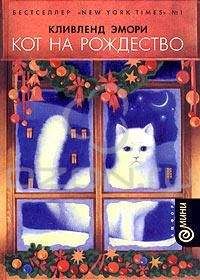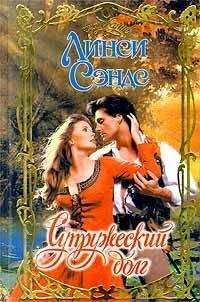Марина Крамер - Три женских страха
Шаги… негромкие шаги, открывшаяся дверь палаты, мужские ботинки и осторожная, крадущаяся походка. Замерли посреди палаты. Тишина. Я боюсь дышать, чтобы себя не выдать. Вот они уже совсем рядом, у кровати. Хозяин их тяжело дышит. Видимо, трогает кровать – она скрипит конструкциями. Ботинки разворачиваются и обходят всю палату. Не шевелюсь, не дышу – вдруг нагнется и увидит? Нет, пошел к двери. Говорит кому-то:
– Нет ее, перевели, наверное. Да куда – она ж не ходит. Точно говорю, перевели. Поищем.
Дверь хлопает, и я теряю сознание.
Утром в больнице переполох – кто-то видел неизвестного мужчину в форме больничной охраны, который интересовался мной. Я – Александра Гельман, это я помню хорошо, поэтому свою фамилию в разговорах различаю. Меня утром нашли медсестры под кроватью, неведомо как сумевшую забраться на решетки и там потерявшую сознание. Я не могу ничего им объяснить, не понимаю сама, как получилось, что я забралась под эту кровать. У меня ощущение, что это спасло меня от чего-то ужасного. Я боюсь оставаться одна и прошу медсестру посидеть со мной. Она соглашается и сидит рядом, читает вслух какой-то журнал. Я почти не слушаю, но мне намного легче – я хотя бы не боюсь.
К обеду приезжает папа, лицо его озабочено, брови нахмурены.
– Я забираю тебя домой.
– Домой?
– Да, к себе домой. Тут небезопасно. Сейчас врач рекомендации напишет, расписку я дал уже. Оденут тебя девки – и поедем.
Я совершенно с ним согласна – второй эвакуации под кровать я не вынесу. Через три часа мы уже дома. Я лежу в просторной светлой комнате, и рядом со мной на кровати – старый потрепанный медведь. Мой медведь, подаренный папой на день рождения.
Через три дня папа пришел ко мне в комнату рано утром, я только проснулась и ждала, когда кругленькая, с мягкими теплыми руками Галя придет и поможет мне умыться. Но вместо Гали вошел отец, сел на кровать, привычно поцеловал в щеку:
– Привет, Кнопка. Как ты сегодня? Выглядишь неплохо, только бледненькая какая-то.
– Мне хорошо, – я попыталась улыбнуться. – Только на улицу хочется.
– Ну, это мы мигом! – обрадовался отец. – Сейчас позавтракаем с тобой, и я ребятам скажу, чтобы вынесли кресло во двор. Посидишь, подышишь, Галя тебя оденет тепло – на улице-то мороз, к Новому году прихватило что-то. Хочешь, Сашка, елку?
Я кивнула:
– Хочу.
– Ну и прекрасно. На той недельке привезу, нарядим – и будет елка тебе. Слушай, Сашка… – вдруг став серьезным, проговорил отец. – Тут такое дело… Короче, позвонил Акела, просит, чтобы ты с ним хоть пару минут поговорила.
Поморщившись, я бросила недовольно:
– Пап, ну я же тебе сказала – я его не помню. Как разговаривать с человеком, которого не помнишь? Он говорит что-то – а я не помню этого и чувствую себя дурой. Неприятно, однако.
Отец нахмурился:
– Сашка, нельзя так. Он твой муж – ты мне не веришь, что ли? Муж – понимаешь?
– Я не помню! – отрезала я. – И хватит. Не хочу больше.
Отец понял, что дальнейший разговор бесполезен, и вышел, а ко мне наконец-то пришла Галя с тазиком теплой воды и мягким полотенцем.
– Деточка моя, доброе утро! Я тебе булочек ореховых испекла, сейчас умоемся – и кушать. Ты всегда такие булочки любила, – приговаривала она, умывая мне лицо и шею.
Я же только кивала и выдавала подобие приветливой улыбки. Где мне помнить, какие я любила булочки, когда я саму-то Галю не помню и только со слов отца знаю, что она – Галя, домработница, работающая у него сто лет и три года. Я и дом-то не помню – папа вчера привез кресло-каталку и возил меня по комнатам весь вечер, рассказывая, где что. Я вспомнила только плетеное кресло-качалку в гостиной у телевизора. Но вспомнила его стоящим не здесь, а в какой-то квартире, гораздо меньше этой. И в кресле – женщина. Молодая, стройная, с темно-русыми волосами и лицом как у мадонны на старинных картинах. Я рассказала отцу, тот сперва удивился, но потом сказал:
– Было такое. И квартира была другая, и женщина тоже была. Кресло это я забрал как память.
Так я узнала, что у меня когда-то была мать.
Вообще вспоминать что-то было даже забавно. В какой-то момент что-то вылезало и складывалось воедино, как стеклышки в калейдоскопе – в красивую картинку. Какая-то мелочь могла вызвать ассоциацию, а за ней – четкое воспоминание. Но в целом я мало что помнила. Например, почему у папы все руки в наколках – но он отказался объяснять, сказал, что позже я вспомню и это, но было бы лучше, если бы этого не произошло. Когда же мне пытались рассказать что-то без моей просьбы, я злилась – было ужасно выглядеть такой беспомощной. Папа запретил и Гале, и охране говорить мне что-то, только отвечать на вопросы.
Однако вкус булочек снова восстановил какой-то кусочек памяти. Только вот он не был связан с Галей – почему-то выпечку я ела в другом доме, а готовил ее молодой симпатичный парень с мягкими чертами лица.
– Кто такой Максим? – вдруг спросила я у Гали, и та равнодушно пожала плечами:
– Не знаю, Санюшка. Может, знакомый твой – разве ж я всех знала?
Тот же ответ я получила и у отца. Странно – а я четко помню и парня, и прекрасную выпечку, приготовленную им…
Пока Галя помогала мне одеться на прогулку, я рассматривала стеклянную полку в гостиной, где выставлены какие-то кубки, медали и грамоты.
– Чье это?
Галя повернулась и проследила за моей рукой:
– А это твое все, Санюшка. Ты ж чемпионка у нас, с детства самого. Из пистолета стреляла.
Однако… Ничего себе – умения у меня. Судя по количеству медалей и кубков, делала я это отменно. Только вот жаль – не помню.
Папа, одетый в теплую куртку и толстые брюки, вошел в гостиную и спросил:
– Ну, готова?
Галя натянула мне капюшон поверх вязаной шапки и повернулась к замершим у двери охранникам:
– Все, берите ее осторожненько.
Я хотела встать с дивана сама, но еле удержалась на левой ноге, и один из парней успел меня поймать. Папа недовольно покачал головой:
– Давай-ка без этого. Хватит с меня твоих пируэтов в больнице.
Охранники вынесли меня на улицу, усадили в кресло, стоявшее посреди двора, укутали ноги пледом. Папа стоял рядом, то и дело прикасаясь ко мне. Мне показалось, что он до сих пор не верит, что я жива и даже разговариваю, гулять прошусь. И было странно, что он то и дело отворачивается и смахивает слезы с глаз. Я не помнила, видела ли его плачущим раньше, но, наверное, нет – раз так удивляюсь.
Морозный воздух очень меня взбодрил, я дышала открытым ртом, стараясь вдохнуть как можно больше, и папа сердился:
– Что ты, Сашка, как маленькая! Простудишься – мало болячек?
Я послушно закрыла рот и улыбнулась:
– Ты со мной, как с грудной.